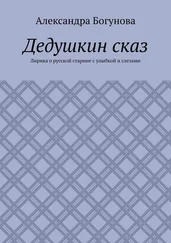— Вот радость, вот радость-то! — восторгался кривой. — У меня этот глаз был еще, когда мы после Липан разошлись. Я его два года тому назад потерял: один батрак градцевского пана мне выколол. Да не беда, ежели я тебя хоть одним глазом — а вижу!
Ян, глядя на Матея, удивлялся, что он не радуется, как остальные. Матей растерянно посматривал на Яна, почти ничего не говорил и только прихлебывал из кружки.
— Ты на меня не смотри! — сказал ему Ян. — Посиди со своими, а потом все мне расскажешь.
И встал из-за стола.
Матей кинул на Яна благодарный взгляд, и лицо его прояснилось. Он зашумел, как остальные, и вскоре все запели старую лагерную песню, бодрую и веселую, из тех, что поют бойцы на вечерней заре, предвещающей близкую смерть…
Ян заплатил и пошел к себе. Он долго размышлял обо всем увиденном.
Послышались шаги Матея на лестнице. Взойдя, Матей остановился у двери, но стучаться не стал. Не то боялся войти, не то не хотел.
Ян открыл. За дверью стоял понурый, сгорбившийся Матей. Он плакал.
— Что с тобой, Матей?
— Ничего, сударь, Только мне надо кое-что тебе сказать.
— Сперва сходи к хозяину и принеси хорошую свечу. Я хочу, чтоб тебя было видно!
Вскоре Матей вернулся со свечой. Поставил ее на стол, но не сел.
— Садись и говори!
Матей молчал. На глазах у него опять выступили слезы. Потом он заговорил:
— Помните, сударь, как мы с вами в Баварии на соломе лежали и заснуть не могли?
— Помню!
— Я этого, сударь, никогда не забуду. И наше расчудесное долгое путешествие по белому свету — тоже. Вы были мне добрым хозяином, братом моим, братом жалкого разбойника.
— Ну ладно. Скажи, ты пил там, внизу?
— Ни-ни, сударь. Табориты никогда не пьют больше того, что могут! Но у меня другая забота… Народ здесь ходит небритый, плохо остриженный!
Тут он опять замолчал и только ломал себе пальцы, но так, что Ян этого не видел. Чуть из суставов не выворачивал.
— Тебе хочется стрижкой заняться, Матей? Так, что ли?
— Да, сударь!
— Так что ж ты боишься сказать?
— Трудно мне с тобой расстаться.
— Оставайся, Матей. Оставайся здесь, со своими! Ты встретил братьев, которые тебя давно знают. Будешь с ними вспоминать о походах и сраженьях. А может, и женишься. Еще не старый ведь. Ты был мне верным слугой, Матей; я любил твое ворчанье, предостережения твои и весь твой обычай. А теперь простимся. Мы дома. Будем оба жить в одной стране, хоть и не в одном городе!
— Ты уедешь из Табора, сударь?
— Меня бы здесь не приняли, Матей! Я еще не научился верить. У меня слишком много мирских интересов. А в Таборе имеет право быть только тот, кто от всего отрекся, кто хочет здесь жить, а коли будет на то воля божья — и умереть. Ты к этому готов?
— Да, сударь! Бритье — это ведь я только для вида!
— Иди, иди спать, Матей, ляг после стольких лет снова между своими! И будь спокоен. Не могли же мы вечно быть вместе…
Матей преклонил колено и долго, долго держал руку Яна в своих руках. И опять поцеловал ее, как тогда, в Венеции, перед дожем. Потом встал и быстро ушел, заботливо погасив свечу.
Утро выдалось не веселей вечера. Дул резкий ветер, на улице хлестал дождь, и только к полудню — день был воскресный — разведрилось. Матей предложил Яну сходить с ним в церковь. Ни Коранда, ни Бискупец не будут проповедовать, но, может быть, Яну понравится поучение и более простого священника.
Они вошли в храм. Он был просторный и светлый. Деревянные стены и потолок тщательно выбелены. С потолка свешивалась на красном шнуре неугасимая лампада. Близ восточной стены стоял грубо вытесанный стол, и на нем лежала раскрытая Библия. У стола они увидели молодого священника в простом черном облачении. У него были белые руки, и жесты его отличались сдержанностью, неторопливостью. Толпа верующих наполняла всю церковь — от входа до стола. Женщины, занимавшие левую сторону храма, были в головных платках и стояли, склонившись. Мужчины, направо, застыли, прямые и неподвижные.
Священник говорил о приближающемся празднике рождества Христова. О пастухах, пришедших поклониться младенцу в яслях. О рождении спасителя, происшедшем в хлеве. О смирении, представляющем собой поэтому одну из высших добродетелей христианских, и о бедности, обязательной для служителей духовных. Говорил он также о священниках, владеющих земельной собственностью. И о папе, который живет в золотых палатах, ездит верхом на жеребце, требует, чтоб его носили на носилках под шелковым балдахином и овевали опахалами из страусовых перьев. И о золотых храмах, оскверняющих службу господню тщеславием языческим и пестротой муринской… Потом он предложил присутствующим покаяться в грехах.
Читать дальше
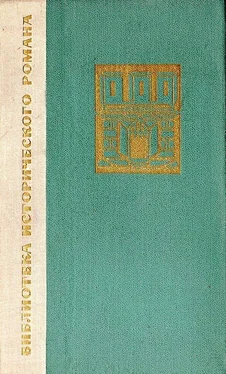






![Фрауке Шойнеманн - Генри Смарт и секрет золотого кубка [litres]](/books/430113/frauke-shojnemann-genri-smart-i-sekret-zolotogo-kub-thumb.webp)