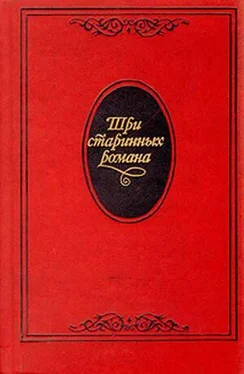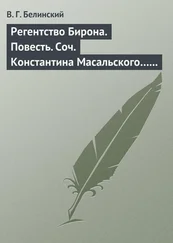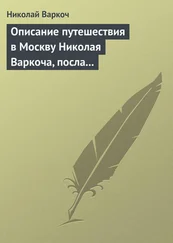Николай Коншин
Граф Обоянский,
или
Смоленск в 1812 году
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
Певец в стане русских воинов
12 июля, часу в 11 ночи, по узенькой улице Орши, небольшого городка Могилевской губернии, окинутого грозными биваками французов, пробирались двое, оглядываясь поминутно на все стороны и разговаривая между собою так тихо, что самый чуткий фискал побожился бы, что они молчали. Один из них, высокий, осанистый, лет за пятьдесят человек, был жестяных дел мастер Ицка Шмуйлович Варцаб, кагальный города Орши, человек уважаемый между земляками, имевший на большой улице, недалеко от рынка, собственную свою мелочную лавочку и ежегодно возивший на ярмарку в Красный, а иногда отправлявший и в Смоленск высоко и широко нагроможденный воз звонких своих рукоделий. Другой, лет восемнадцати, длинношеий, сухощавый, с большими серыми, навыкате, глазами и полуоткрытым ртом — был портной Берка Мардухович, племянник Ицки Варцаба.
— Ни лоскутка бумаги, — ворчал первый, пощипывая себе усы с уловкой, чтоб засторонить звуки голоса, — ни гроша денег чтоб не было с тобой, Берка. Боже тебя сохрани! Пуля и петля!
Молодой шел задумчиво, или, может быть, рассеянно; при последних словах он вздрогнул и поднял глаза на своего спутника.
— Не гляди так зорко, — продолжал первый, — иди себе прямо да слушай, что я говорю: никаких записок не бери с собой, ни лоскутка бумаги, ни даже ребячей мерки. Все может показаться подозрительным, а при малейшем подозрении сгинешь как собака.
Разговор временно пресекся; едва-едва раздавался шум походки двух приятелей.
— Видишь ли, какой свет во всех домах, — начал Ицка, повернув голову к окнам жидовских хижин, мимо которых теснилась улица, — все генералы стоят по квартирам, а из солдат одни только польские уланы в городе, другие же все в лагере; надобно часа чрез два собираться в дорогу.
— Так я теперь пойду домой, — сказал Мардухович, вытянув шею и заглядывая в глаза своему дяде, — меня такая дрожь проняла с твоих рассказов, что и в печи, кажется, не согреюсь.
В эту самую минуту брякнуло что-то вблизи евреев.
— Кто идет? — заревел вслед за сим толстый бас поляка, стоявшего на часах, за воротами дома, с которым они поравнялись.
— Солдат, солдат! — отозвался торопливо Ицка, между тем как пронзительное «ай, ай, ай!» портного мастера заглушало басистый оклик.
— Чего же ты боишься, Мардухович? — продолжал он по-польски, ободряя и себя и своего племянника. — Бояться нечего, мы свои; здесь наши приятели.
— Дьявол-жид! — вскричал спесивый поляк кампании 1812 года. — Может ли быть шляхтич тебе приятелем!
— Господин служивый, — сказал твердым голосом Ицка, имевший, как замечали в Орше, удивительный дар не теряться в бедственных обстоятельствах, — господин служивый, — повторил он с видом покровительства, — не тут ли квартира ясновельможного пана князя Понятовского? Я фактор камердинера его милости.
Лукавый Ицка очень хорошо знал, что князь квартирует в гостинице, но, казалось, сими словами хотел возбудить в поляке большее к себе уважение: имя князя Понятовского было талисманом безопасности между польской вольницей знаменитой кампании.
— Поди от меня к черту с твоим камердинером, иудино отродье! — вскричал часовой, выскочив за ворота и отвесив звонкий фухтель [1] Фухтель — плоская сторона клинка, а также удар клинком плашмя — прим. верстальщика .
по плечам Ицки.
— Как ты смеешь драться, как ты можешь драться! — завопил жестяных дел мастер, отбежавши на другой конец улицы, махая руками и почти задыхаясь словами своей угрозы. — Я на тебя найду суд, — кричал он, — я пойду к капитану, к майору, к императору; я честный еврей, обыватель города, кагальный!..
— Держи его, разбойника! — крикнул часовой, тряхнув звонкими ножнами своей сабли. И хотя на улице не было ни души, но вынести подобный испуг было уже свыше сил миролюбивых евреев; в голове у них зазвенело, сотня отголосков запищала в ушах. Подхватив длинные полы своих демикотоновых сюртуков, они пустились бежать.
— Сюда, сюда, Ицка, — шептал на бегу задыхающийся Мардухович, — вот мой дом, беги сюда; слышишь, скачет за нами в погоню кавалерия. — Они перепрыгнули вправо, чрез канаву, пробежали мимо высокой с крытым двором корчмы: калитка брякнула и, укрыв двух друзей, обеспечила безопасность их крепким железным засовом; молча и с трудом переводя дыхание, они вбежали в так называвшуюся у них большую горницу, и два бледные лица, осененные ермолками и придавленные к самым нижним стеклам оконницы, долго, как бы рядом намалеванные, виднелись с улицы, к луне, прямо обливавшей палевым светом своим корчму портного Берки.
Читать дальше