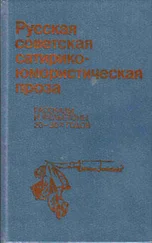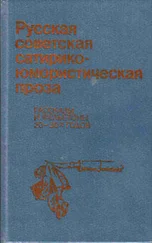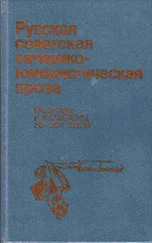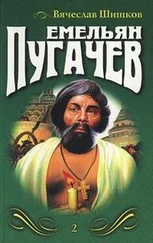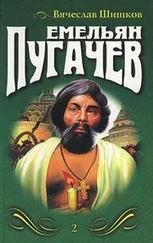Иван Петрович слушал его, водил бровями вверх и вниз.
— Ты повторил слово «думаю» двадцать раз. У тебя мысль заикается. Должен говорить кратко, отчетливо, толково. Вынь из кармана руки!
— Извините, Иван Петрович! Я еще не развитый вполне, не совсем чтобы сознательный. А вот я про что думаю. Знает ли собака, что она собака, что ее собакой зовут? Вот я знаю, что я человек, и вы знаете, что вы человек, и всякий дурак знает. А вот — собака? Ну, допустим, какой-нибудь мопс знает, что он есть собака, а вот, скажем, пудель стриженый, в прическе, он, может быть, и не знает, что он — собака. Он, может быть, думает, что он, ну, скажем, — петух, или кастрюлька, или боров. Как это? Как они друг дружку-то? Вот, например, собака видит другую собаку: как она для себя думает, кто это бежит?
Брови Ивана Петровича застряли на лбу, под волосами,
— Собака должна подумать, что бежит «себе подобное». Не болтай. Ты слово «собака» повторил сорок раз.
— Вот и проврались вы, Иван Петрович: не повторил, а «посорокаразил».
Брови Ивана Петровича упали к переносице:
— Иди спать! Некогда…
Инженер Вошкин карасиком смылся, А заведующий буркнул в пустоту.
— Хм… Замысловатый бестия. Остромысл. Толк будет.
На другой день мальчонка пристал к воспитательнице:
— Растолкуйте, Марколавна, голубушка! Вот когда маленькая птичка улетает от ястреба, она его боится или ненавидит? Или она его потому боится, что ненавидит, или потому ненавидит, что боится? Только вы не подумайте, пожалуйста, что я ненавижу Ивана Петровича. Нет, я его люблю. Он славный.
Вскоре от Фильки и Амельки пришла посылка: коньки работы трудовой коммуны, выпиленная, вся в узорах, рамка для фотографических карточек, пенал для перьев, коробочка «ландрина». Филька слал три рубля денег, Дизинтёр — в чистом мешочке вкусных сдобных лепешек — пекла Катерина, жена его. Все было упаковано в общий ящик.
Амелька, между прочим, писал: «Рамку и пенал сделал сам из ясеня. — Коньки — наша продукция. Есть ли у тебя сапожишки? Ежели нет, пришли мерку с запасом, чтоб не жали. Я тогда вышлю, — нашей продукции».
Филька описывал свою новую жизнь, что он всем доволен пока, с ним живет и Шарик, только вот жаль, — нету дедушки Нефеда и милого, незабвенного Инженера Вошкина. Ну, да Филька надеется, что с Павликом им еще придется повстречаться. Была писулька и от Дизинтёра. Писал корявыми, нескладными буквами: «Мальчишечка, родненький, ну, как живешь, хороший мой ангел? Лепешки кушай всласть. Вот ужо приеду в город, привезу тебе медку, пчела нынче была медиста, да маслица привезу, да ватрушечек. Прощай, ангельска душа. Ты из мыслей моих не вылазишь. Живи в повиновении. Вникай к хорошему. Начальство слушай».
Инженер Вошкин это письмо поцеловал. Целый день, любуясь, играл вещами. В мешочке тридцать две лепешки: он три съел, девять роздал, остальные передал на хранение Марколавне.
— Боюсь, все сразу сшамаю, опучит и не буду есть казенного.
Все мысли его перебивались теперь давно заглохшими воспоминаниями о Фильке, Амельке, Дизинтёре. Он не знал, как отплатить им за добро добром. Он принялся за ответное письмо, но у него не было таких хороших, теплых слов, как у Дизинтёра, да ему, признаться, и не хотелось писать, — он и так, без слов, их любит. Он лучше пойдет устраивать во дворе каток, по «Науке и технике» определит площадь и сколько потребуется ведер воды на поливку. Да. Таких замечательных коньков, какие, на зависть всем, прислал ему Амелька, он и во сне не видел.
Вообще Инженер Вошкин чувствовал себя счастливцем. Марколавна за последнее время стала к нему чрезмерно ласкова; ласков и Емельян Кузьмич. Наблюдательный мальчонка подметил также, что они и друг к другу начали относиться по-особому, этак как-то, понимаете, «наоборот». Он значение слов: жениться, свадьба, муж, жена — знал смутно; поэтому внешние отношения Марколавны и Емельяна Кузьмича он сам для себя определил: «Наш Амельян маруху себе готовит. Только старовата. Эх, не дело! Дурачье!»
Действительно, Марколавна постепенно на глазах у всех чудесно молодела. Преображался и Емельян Кузьмич. Все юбки Марколавны становились на четверть аршина короче, запущенная же борода Емельяна Кузьмича удлинялась. Марколавна остригла себе, как мальчишка, волосы; они потемнели, стали казаться пышнее и гуще. Наоборот, хотя Емельян Кузьмич и старался выращивать шевелюру, смазывая голову смесью из медвежьего сала, керосина и касторки, однако голова его, к сожалению, лысела.
Читать дальше