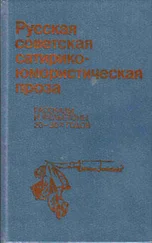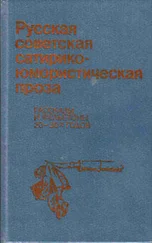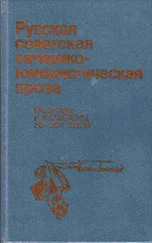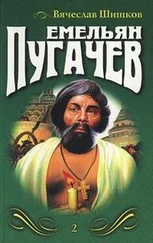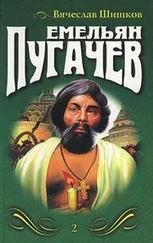Так блуждал по тропинкам домыслов его напористый, но тугой на размышленья ум.
Мысли Амельки как бы раздвоились, самочувствие распалось надвое, и сознание двойного преступленья грызло его душу. Да, теперь ему совершенно ясно. Амелька не только не загладил прежнего своего злодейства, напротив — Амелька взвалил на свою совесть новое преступление; он вовсе не герой, он — матереубийца и предатель. Вдвойне злодей.
Парень осунулся, побледнел, стал на работе вялым и рассеянным.
— В чем дело, говори откровенно, — однажды спросил его товарищ Краев. Он подметил в парне что-то неладное и пригласил его к себе.
Амелька молчал, мялся. Глаза его то бегали с предмета на предмет, то упорно глядели в пол. Он сжался, сгорбился.
— Все, что скажешь, будет между нами. Понятно? Так. Может, дурную болезнь схватил?
— Что вы, нет.
Краев прошелся по кабинету, расстегнул френч, что-то замурлыкал себе под нос. Амелька, напрягая все усилие воли, старался настроить себя на откровенность. Выпрямился, кашлянул, втянул под ребра живот и заговорил:
— Вот в чем дело, товарищ Краев…
Вслушиваясь в свои слова, он удивлялся своей прошлой жизни, которая в пересказе теперь развертывалась перед ним по-новому, не так, как представлялась она в то время его мальчишеским глазам, а в строгой критической оценке во многом созревшего ума его.
Под гнетом печальных, порой трагических воспоминаний Амелька снова сгорбился и с опаской стал поглядывать на Краева.
— Вали, вали…
Когда было сказано все до дна, Краев, легонько насвистывая какой-то мотивчик, поскреб длинным ногтем давно не бритую щетину щек и, не торопясь, стал набивать трубку. Черные брови его то сдвигались к переносице, то расходились.
— Знаешь что? — И Краев поднял утомленные глаза на прямого, вновь окаменевшего, как истукан, Амельку. — Никаких загробных зовов матери, никаких преступлений и наказаний. Достоевского читал, про Расколъникова? Ну, так. Все это ерунда в квадрате. Тем более что мать ты убил случайно, неумышленно. Все в нашем мире просто, все естественно. Понятно? Так. А попросту знаешь что? Ты неврастеник… Да-да! Это уж поверь, хотя я и не доктор. Кокаину много перенюхал?
— Было дело…
— Ну, вот.
Краев сорвался с места и быстро-быстро стал бегать взад и вперед, размахивая руками и что-то бормоча.
— Да! — вдруг среди комнаты остановился он спиной к Амельке, хлопнул себя по лбу и повернулся на каблуках к нему лицом. — Дело вот в чем. Дело в том, что вряд ли ты поймешь, а мне бы хотелось. Ну, ладно. Как умею… Хотя я и не врач. Понимаешь, есть в Ленинграде такой замечательный, известный всему миру старик, академик Павлов. Ну, так вот… Он над собаками опыты делает, рефлексы ищет, условные и безусловные… Нет, парень, не понять тебе, нет, не понять.
— Может, и пойму. Я книг много читал.
Краев сдвинул на него брови, бросил: «что?» — и снова зашагал по комнате. Впопыхах он торопливо затягивался трубкой, фукал, совал трубку в карман, опять выхватывал и фукал вновь. После происшедшей передряги он тоже нервничал.
— Да, вот что! Рефлексы — ерунда. Все равно ты не много бы понял… Совсем не так надо… А вот. Слушай, Схимников. Ты знаешь, сколько крови пролито в германскую войну?
— Знаю. У нас в деревне, бывало, пели:
Головами мосты мощены
Из кровей реки пропущены.
— Ну вот, ну вот!.. Прекрасно сказано… «Головами мосты мощены». А чьими головами? Подумай, брат. Теперь возьми гражданскую войну. Из чьих кровей реки пропущены? Из наших, из пролетарских. И сколько страданий… Нет, ты только подумай, Схимников. Сколько матерей, сколько сестер осиротело. Опять же возьми голод, холод, нищету, повальные болезни. И все эти неописуемые бедствия претерпела наша страна в борьбе за лучшую жизнь. И вот рядом с этими массовыми страданиями поставь свой личный эпизод с матерью. Он тебе покажется жалким, ничтожным. И если в тебе есть хоть капелька искренности и ума, тебе стыдно будет возиться с своим чувствишком, как с писаной торбой. Стыдись, Схимников!
Амелька сидел в угрюмом молчании, с низко опущенной головой, пыхтел.
— Ну, прощай, Схимников. Иди. Будь здоров. Да! Стой! Пойдем-ка с тобой послезавтра за зайчишками по пороше… Для нервов — это благодать… Ружье дам.
— Что ж, с полным нашим удовольствием, товарищ начальник.
Было не так еще поздно. Амелька решил зайти к Марусе Комаровой. Дорогой с внутренней усмешечкой думал: «Чудак этот Краев. А насчет матери… Ему хорошо говорить, раз он никогда не убивал… Попробовал бы… А может, он и верно толкует. Уж и не знаю как…»
Читать дальше