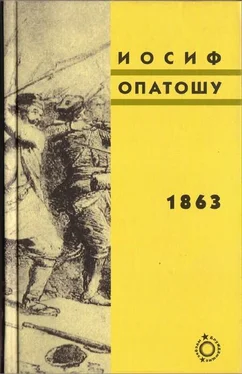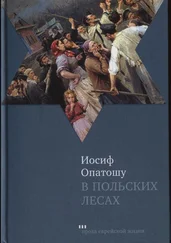— Он меня узнал. — В ее голосе слышались слезы.
У Мордхе кровь прилила к вискам. Ему стало все ясно. Он понял, что окружающие недоумевают, стоило ли брать с собой на такое важное мероприятие уличную девку.
Он пытался отыскать взглядом Кагане. Почему вдруг его? Разгоряченные лица вырастали из темноты, одно из другого, одно из другого, в воздухе парили носы. Мордхе удивился: носы должны были принадлежать людям. Рядом с собой он увидел Сибиллу.
Сибилла ласково обняла Терезу, заговорила о вечере, сделала комплимент ее белым пальцам и сказала, что завидует юношам, отправляющимся воевать за свободу Польши. Тем самым Сибилла дала присутствующим понять, как нелепа их буржуазная мораль.
Мордхе был ей благодарен за себя, за бедную Терезу, в чьей распущенности было так много благопристойности.
Он поглядел на Гесса, Бакунина, Норвида, на остальных он боялся смотреть. Скоро все закончится, обязательно закончится. Ему нужно только отвести взгляд от угла, и большой круг, который все время увеличивался, сомкнется. В его центре появились реб Менделе, босой Исроел, высеченные парубки, парижские бездомные, и все настойчиво рвались к нему.
Мордхе прожил с Терезой несколько месяцев, обращался с ней как с сестрой, гася в себе любые порывы, и что теперь? С его отъездом в ней пробудится порочность, скрывающаяся за праведностью, и к преследователям Мордхе присоединится еще и Тереза.
Темная ночь призывно стучала в окно. Мордхе вдохнул суету, царившую в зале. Он воспарил над окружающими и стал отдаляться от Гесса, от Бакунина, от Норвида. В пространстве, которое образовалось между ними, трепетали их души, они сливались с бесконечностью и мучились от боли.
Рядом с Мордхе все еще стоял светловолосый граф со своей свитой, он болтал и смеялся. Этот самовлюбленный человек почему-то считал, что вечеринка устроена в его честь.
Мордхе выпил бокал вина, второй, третий. В голове прояснилось. Он услышал, как прощается Норвид, за ним — Гесс. Человек с широким скуластым лицом потягивал вино из бутылки и кричал жене, которая без устали флиртовала с юношами:
— Ядвига, дитя мое, иди спать. Уже поздно, Ядвига.
Она даже не оборачивалась, будто эти слова ее не касались, а были направлены в пустоту. Детский смех Ядвиги теперь звучал резко, как это бывает у пьяных женщин.
И чем больше пил Бакунин, тем больше хмурились его густые брови, нависающие над глазами, как щетки. Широкое лицо затуманилось и помрачнело. Глаза загорелись огнем, готовым в любую секунду рассеять туман и вызвать ураган.
Он протянул руку, указывая на пустое место, где недавно сидел Гесс, и пробормотал:
— Я его не люблю, Маркса я тоже не люблю, я вообще ненавижу евреев! Они не революционеры, ни Гесс, ни Маркс, они не знают, что такое свобода. Несчастные буржуи!
Широкое скифское лицо все мрачнело, скрывая границу между духом и материей, и из этой бездны то и дело показывался великан, отряхивающий пыль, которой его засыпали люди. Это продолжалось недолго, и его глаза снова мутнели и становились все уже и уже.
С пьяной добротой Бакунин обнял Мордхе, и из его беззубого рта, как из темного подземелья, посыпались слова:
— Я плохой человек, неприятный. Я всех оскорбляю. Я не узнаю людей, с которыми встречаюсь несколько раз в день. Я не подаю руки знакомому, когда тот хочет со мной поздороваться, и, несмотря на все по, все суетятся вокруг меня, улыбаются, когда говорят со мной, делятся со мной слухами, словно они обязаны стоять передо мной на четырех лапах, чтобы мне было куда положить ноги. Если я что-нибудь пишу, то получаю в ответ кучу писем. Самый сдержанный отзыв, который они могут мне написать, — что моя вещь гениальна. Мерзавцы, кому, как не им, знать, что я уже несколько лет не написал ничего такого, что можно было бы читать!
Меня переводят на многие языки, профессора читают лекции обо мне, и, похоже, я могу плюнуть на любого, кто мне не нравится. И несмотря на это, я узнаю каждого репортера, каждого сплетника издалека и хлопаю его по плечу, поэтому он обязательно напишет обо мне. Я знаю, это отвратительно, так же противно, как когда старик залезает в постель к юной девушке. Но ничего не могу с собой поделать. Как только выхожу из дома, я меняюсь в лице. Публика считает меня великаном. Какой я великан, если, даже когда я плюю желчью в кого-нибудь, стираю его в порошок, я знаю, что я совсем не злой, просто дразню гусей, и страдаю от того, что не могу разозлиться.
Я знаю, что все, кто меня окружает, лгут мне, и, чтобы это исправить, я смеюсь над ними, пинаю их ногами, а они, словно резиновые, кланяются и с радостью принимают пинки.
Читать дальше