— Это то есть как, «не зевай»?
— Да по мне, княже, что рязанцы, что татары. В Рязани боярина знатного, гадюку, — он в порубе тайном хоронился — на верёвке притащил... Ещё тогда заприметили. А после вызывает Эльджидай-нойон. Полоняников градских предо мной поставили дюжину и саблю мне в руки — руби, мол, доказывай преданность. Что ж, порубил охотою, долго ли? Да и говорю: «Ежели что, так ещё давай. Сабля не каравай, сколь ни махай — острия всё столько же». Ихний толмач перевёл, засмеялись, взяли в сотню. После уж и в Козельске жёнок-детей рубали... и в Чернигове. А знаешь — мне в охотку, я ли хоровод затеял?
Рассказывал Гневаш всё это запросто, а Олег дивился. Слушает попутчика, где и подхихикивает ему, а неприязни, презрения, брезгливости вроде и нет. Видно, и вовсе сердце после гибели Евпраксии замёрзло... В иные-то времена таких, как Гневаш, и взглядом бы не удостоил. А с другого боку — лучшего слугу ещё поискать. Он на охоту, и состряпать, и от лихих людей раза два уберёг, вовремя заметив.
— Я, ежели кому служу, то честно, — похвалялся парень.
Понял, глядя на него, князь, чем ум от смекалки отличается, только вот смекалка тогда оказалась мудрее ума.
На привалах Гневаш налегал:
— Надо бы нам, княже, сразу к Батыю податься, по то и выручил я тебя.
— Отчего к Батыю? — удивлялся князь.
Гневаш между тем не терялся:
— Ему ныне рязански али ещё какие князья законные в самый раз. Пошто так? А оттого, что Гуюк — враг ему первейший. Значит, князей по всем городам захочет Батый от себя утверждать. Это, стало быть, пока в Каракоруме суматоха да власти делёж. — И, заглядывал Гневаш молодому князю в глаза нахально, без тени смущения: — Не тушуйся, княже, проси грамоту на Рязань... Ингварь-то, что на Рязанском столе ныне, Гуюков подпевала. Так гнать его, и войска хан даст, ей-ей.
— А ты? Тебе какая с того печаль? — уже не удивляясь «державной» хватке бойкого Гневаша, устало бросал Олег.
— А я у тя ближним человеком буду али гридней воеводою, а то и в бояре. Вот те крест — не пожалеешь.
«Мальчишка... в чужой крови до ворота рубахи, а всё равно мальчишка, чудно», — думал князь, глядя на него. У самого же были другие задумки о будущем. Власти не хотелось — пустое это всё. А жаждал он узнать всё доподлинно о гибели Евпраксии. Потому рок, нетерпеливый и упрямый, как вол, напористо гнал его домой, в Рязань... Вернее сказать, в тот Новый Град, что спешно возводился её уцелевшими погорельцами совсем в другом месте.
Однако нетерпение и тоска — советчики никудышные. В Новой Рязани всё было ой как непросто, и этого молодой князь знать не мог.
Старший брат Олега Ингварь отсидел в Чернигове нашествие, отчего — единственный из князей — оказался и живым, и не в плену. А в дальнейшем повёл он себя неосторожно и глупо. Вернувшись на пепелище, устроил молебен в честь «радости» избавления от «безбожного царя Батыги», и вообще, плясал на животе уснувшего льва с такой весёлой беспечностью, будто сей лев уже мёртв.
Вообще-то это была давняя традиция Рязани — радоваться нынешнему без думы о грядущем. Привыкшая жить от разорения к обдиранию и не мечтать о другой, лучшей, доле, рязанская земля таких князей понимала лучше дальновидных.
Понятное дело — всё сразу стало известно Бату. Сначала джихангир подумал — это урусутская неспособность понять зимою, что придёт весна. Вот ведь глупец этот Ингварь! И вправду поверил, что монгольское войско пронеслась по Рязанщине как тупая гроза и сгинет в других землях.
Сперва монголам было не до распоясавшейся Рязани. Они, истекая кровью (не только хашара, но и своей собственной), штурмовали польские и венгерские замки. А там сопротивлялись, не в пример Руси, отчаянно. Потом на уставшие от бесконечных боев плечи обрушилась нежданная смерть великого хана Угэдэя, и грозная империя вляпалась в междуцарствие в не самое подходящее время.
В Каракоруме ханша Дорагинэ — вдова Угэдэя и мать Гуюка — удержать власть не сумела. Тщательно оттачиваемая ещё со времён Чингиса пирамида принуждения досталась откровенным шкурникам во главе с пленной персиянкой Фатимой. И началось.
Этого не ожидал никто, по сложно переплетённой паутине интриг стали гвоздить неуклюжей, но мощной булавой. Без толку, без разбору. На завоёванных просторах воцарилась откровенная продажность.
Вот тут-то и несториане — из тех, что когда-то так много сделали для укрепления власти «величайшего из людей» — и монгольские ветераны, и приверженцы пронырливого Юлюя Чуцая добрым словом помянули мягкого, добродушного, предсказуемого Угэдэя.
Читать дальше



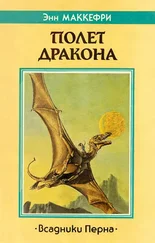





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


