Всем этим новым воинством командовал Делай, вернее, друг того, хан Боняк, который его замещал в тусклых заботах командующего. Сам Делай не любил передвигать большие массы людей, он был рождён для отчаянных вылазок одиночек. «Лучше верховодить стаей волков, чем бескрайними овечьими отарами. Какое в том наш джихангир находит удовольствие?» — дразнил он на советах ближних нойонов...
Осенью тумены шли меж Донцом и Доном. Люди, уставшие от вечных переправ, радовались лёгкости пути. Все боялись здешних снегов. Кыпчаки в такое время не высовывали носа из своих зимовников, монголы же и кераиты с ужасом вспоминали редкие годы, когда трава под белым покровом была недосягаема для конских копыт. Поэтому первые, довольно поздние для этих мест снежинки вызывали в незваных гостях ту дрожь, которой виной отнюдь не холод.
— Эй, Демир. Я сегодня видел во сне, будто плыву под ледяной водой, а белый лёд надо мной всё твердеет... твердеет. Скоро и башкой его не пробьёшь...
— А сверху по голове через лёд стучат копыта голодных жеребцов и не могут до тебя достучаться, да? Вот потеха, пробили кони снег, а там вместо травы твои бестолковые волосы.
— А знаешь, как нас, куманов, зовут урусы? — откликался Гза, грабивший когда-то Киев с черниговским князем.
— Известно как, половцами зовут...
— Не знаешь из-за чего? Волосы у наших цвета сухой травы, по-ихнему — «половы».
— Мне тоже снился сон. Пробивают урусутские кони здешние снега, а под снегом-то будто трава, а на самом деле волосы. Волосы, волосы с отрубленных наших голов — до горизонта.
— А ну прекратить трусливые разговоры, — окликал их сотник-монгол.
Наслушавшиеся ужасов монгольские и кераитские разведчики с опаской приближались к сугробам, которых по оврагам намело пугающе быстро. Набранные в Коренном улусе юнцы спешивались, осторожно погружали в снег руку по локоть.
— Ну что ты там делаешь, дурачок?
Дрожащим голосом:
— Скажи, Темугэ... что... вот так... вот так, как в этом сугробе, скоро будет везде?
— Ну уж, — смущался старший, — во-первых, в тех городах, которые откроют нам ворота, так не будет. Да и потом, войско Мунке отвоёвывает сено в кыпчакских зимовниках, — не подохнут твои драные клячи.
— Если не пустят нас урусуты в города, это мы, а не клячи подохнем среди этого бесконечного замерзшего кумыса...
— Жаль, что пить его нельзя.
— А ну прекратить щенячье вытье, — окликал их кыпчакский проводник. Впрочем, и он в такую пору здесь не бывал.
С разгневанного чужого неба летели за шиворот раскалённые снежинки, маленькие враги, готовые побеждать своим несметным количеством. Правда, только иногда они объединялись в большие войска-метели, а пока было терпимо.
Костры из репейника и бурьяна тепла не давали. Унылыми вечерами воины скакали вокруг вялых языков больного пламени, как шаманы. Тогда казалось, что весь лагерь жаждет улететь под крылышко Мира Духов... хотя бы для того, чтобы согреться.
Неприхотливые кобылы и мерины обоза с превеликим аппетитом объедали хрустящую, примороженную желтизну, будто желая насытиться впрок. Сытые боевые хулэги тыкали брезгливыми мордами в землю, но зарываться носами в прибитую дождями траву явно не спешили.
Бату и Боэмунд. Под Пронском. 1237 год
Бату жевал травинку, медленно выплёвывая отгрызенные кусочки. Вот так же разжевать бы да и повыплёвывать навязших в зубах царевичей. Хорошо устроились, мангусы... Теперь он стал, наконец, со всей силой ощущать, почему все так легко согласились выбрать его джихангиром на радость Юлюю Чуцаю — видать, не перестарался мудрейший, уговаривая. По той же причине старейшины выбрали когда-то юного Темуджина своим ханом. Все промахи — палкой по его загривку, а жирные куски побед (это уж как водится) разделят сообща, как туши сайгаков на облавной охоте.
Но где же этот несносный Бамут? Уже второй день, как ему положено быть тут. Заставляет хана, словно мальчишку, выезжать в степь и портить глаза, глядя на эти ядовито-белые бескрайние холмы снега.
Джихангир поднялся на стременах, всмотрелся, будто оттого, что липнешь к этой снежной белизне, Бамут быстрее появится. Однако на сей раз глупая игра со временем его не подвела. Скорее почувствовал, скачет... скачет Бамут, наконец.
Вскоре они уже ехали стремя в стремя, говорили.
— Чем порадуешь? Что там за Резан?
Бамут поправил мерлушковую шапку: оттеняя его раскрасневшееся румяное лицо, она делала друга моложе, чем он есть. Вот так он всегда: если занят интересным делом, то расцветает, как тюльпан весной, чуть отдых — начинает мрачнеть и разваливаться.
Читать дальше



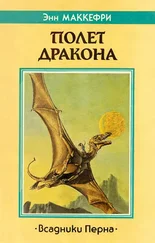





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


