* * *
...Наступила весна 1876 года.
Болезнь все прогрессировала. Геннадий Иванович то и дело терял сознание, часами лежал в беспамятстве. Но, приходя в себя, он снова звал Екатерину Ивановну и диктовал ей, своей верной спутнице жизни, страницу за страницей величественную эпопею, участницей которой была и она.
Стараясь не проронить ни одного слова, Екатерина Ивановна записывала последние строки:
«Вот почему деятельность наших морских офицеров,

составлявших экипаж транспорта «Байкал» в 1849 году и затем Амурскую экспедицию с 1850 по исход 1855 года, преисполненная гражданской доблести, отваги н мужества, представляет незыблемое основание к окончательному присоединению к России Приамурского и При-уссурийского краев и одну из видных страниц истории нашего флота и истории отдаленного Востока».
Геннадий Иванович умолк. Долго лежал он, закрыв глаза. Вдруг добрая улыбка осветила его лицо. Он открыл глаза, посмотрел долгим, благодарным взглядом на Екатерину Ивановну и шепотом сказал:
— Я имел счастье начальствовать этой экспедицией. .. и потому счел своей священной обязанностью изложить эти события с фактической точностью в последовательном порядке...
Это были заключительные слова книги Невельского 19 19 Книга Г. И Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 18-19—1855» вышла в свет в 1878 году, спустя два года после смерти адмирала. --
.
... В один из апрельских дней в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось маленькое извещение, окаймленное черной рамкой:
«Екатерина Ивановна Невельская с детьми с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине супруга своего адмирала Геннадия Ивановича Невельского, последовавшей после продолжительной и тяжкой болезни 17 сего апреля, в 10% часов вечера».
... В этот день над Амуром, впервые за долгие зимние месяцы, порывистый ветер разметал облака. Сквозь окна в облаках на землю брызнули солнечные лучи. Они осветили таежный лес, угрюмые складки сопок и покрытый еще льдом лиман.
Из густой чащобы вышел олень. Он осмотрелся по сторонам, вытянул шею и призывно затрубил.
В Петровском, Николаевском, на озере Кизи и в заливе Нангмар из домов высыпали люди. Они посмотрели вверх на голубое, прозрачное небо и сказали:
«Весна!»
А в далеком стойбище в заливе Анива, на Сахалине, сидел у огня старый айн. Он чинил сеть и рассказывал внукам яро доброго капитана и белую женщину Урус.
* * *

Невельского похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря, на дорожке, что вела от Карамзинской церкви к Громовской.
Журнал «Всемирная иллюстрация» да еще две — три газеты откликнулись официальными некрологами, и имя Невельского было предано забвению.
Немало способствовали этому панегиристы Муравьева — П. В. Шумахер, И. П. Барсуков, В. В. Струве и другие. «Начало и выполнение вопроса об отыскании и занятии устья Амура принадлежало одному Муравьеву», — неустанно твердили и писали они.
И ничего нет удивительного в том, что вскоре позабылись имена участников Амурской экспедиции. Даже в среде морских офицеров можно было встретить большое число людей, которые не могли ответить на вопрос, что замечательного сделал адмирал Невельской. Нередко можно было услышать вопрос: «Мне будто приводилось слыхать, что в свое время этот адмирал совершил нечто примечательное. Но что же? Не знаете ли вы?» И, как правило, тот, кого спрашивали, в ответ только пожимал плечами.
♦* #
...Шли годы. Потоки мемуарной литературы и «специальных» исследований искажали роль и деятельность Невельского и его сподвижников в решении амурско-сахалинской проблемы. Но, вопреки этому, истина, хоть и с трудом, пробивалась сквозь дебри лживых и злостных измышлений, нагроможденных вокруг имени Невельского.
Такие современники Невельского, как Герцен, Добролюбов и Чернышевский, сразу оценили огромное значение деятельности Амурской экспедиции.
В 1857 году, в письме итальянскому революционному деятелю Джузеппе Маццини, Герцен писал: «Завоевание устьев Амура является одним из самых крупных шагов цивилизации».
Добролюбов выступил в 1858 году в X книге «Современника» с большой статьей «Русские на Амуре». «Общественное внимание не только в России, но и в целой Европе обращено теперь на Приамурский край, — писал Добролюбов. — ... Важность этого завоевания, совершенного без кровопролития и без всякого участия военной силы... оценена всей Европой».
Читать дальше
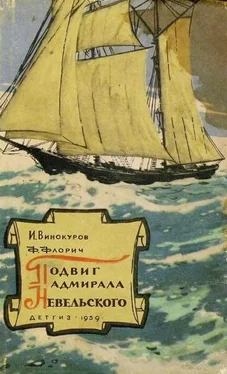


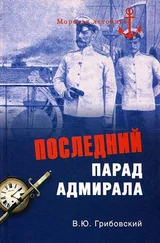
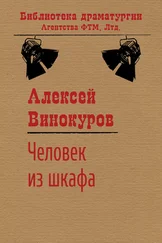

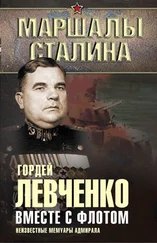

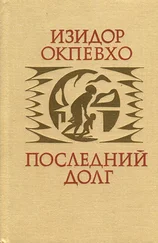

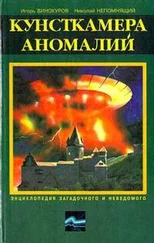
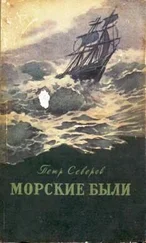
![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1969 № 03 [альманах]](/books/422160/almanah-podvig-podvig-1969-03-almanah-thumb.webp)
![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1981 № 04 [альманах]](/books/422161/almanah-podvig-podvig-1981-04-almanah-thumb.webp)