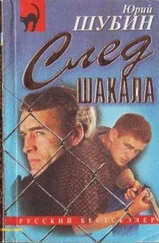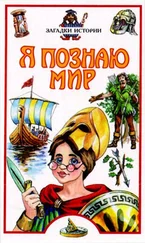Голос тихий, вкрадчивый. Говорит невнятно, будто слюной давится. Не говорит, а шелестит - всё время нужно прислушиваться. Причём никогда не глядит в глаза собеседнику: либо поверх него, либо куда-то на плечико, точно и нет того, с кем беседует. Впрочем, говорит Иван мало, больше помалкивает. Хотя, конечно, по обстоятельствам. Когда надо, бывает и речевит…
Наездами, глядя на новую московскую жизнь свежим взглядом, замечает Юрий вроде и неприметные перемены и дивится брату:
«Скор, Ванька! Тих да скор! Эку паутину успел наплести паучок!..»
Иван и в самом деле потихоньку, однако же крепенько стал подбирать под себя Москву.
Что может быть любопытнее для умного человека, чем управлять другими людьми? Иван тому искусству с юности у батюшки обучался. Да судя по всему, хоть и юн летами, а уж и теперь в том искусстве преуспевает. Конечно, до батюшки ему ещё далеко, но жизнь-то долгая, поди, насобачится людишек стравливать себе на выгоду.
А есть ли на свете иное, более надёжное средство для управления людьми? Одному одно посулить, другому - иное, а потом взять да и столкнуть их промеж собой лбами, да поглядеть, что получится. У кого лоб-то крепче? Потом, коли выгодно это тебе, так примирить, а коли прибытку в том нет, так и расправиться с виноватым, то бишь с неугодным. А уж ежели оба неугодны, так оба и виноваты. Землицу их, раз провинился, либо себе прихватить, либо малыми частицами Меж иными - преданными - распределить, дабы ещё продажней стали!
По твёрдому разумению Ивана не должно быть в княжестве людишек богаче или жаднее самого князя. Да ведь жаднее Ивана-то, поди, и не сыскать никого в целом свете!
Между прочим, первым, кого согнал он с земли, стал большой боярин Акинф Гаврилыч Ботря. Все припомнил ему Иван, чего и не было! Акинф-то ещё должен был Бога молить за то, что живым из Москвы утёк.
А на его земли Иван посадил черниговского боярина Родиона Несторовича Квашню. Он в ту пору как раз на Москву пришёл, да не один, а с преотличнейшей кованой ратью чуть ли не в две тысячи копий!
По тем временам, когда и вся-то Москва уж никак не более двадцати тысяч жителей составляла, каково приобретение завидное!
Тих, ласков, благочестив, улыбчив Иван Данилович… Никак Юрий в толк не возьмёт: чем, как сплотил вокруг себя нужных людей? А ведь сплотил! Старик Протасий Вельяминов в рот ему смотрит, точно сам из ума выжил, Фёдор Бяконт за ручку ловит, новые бояре, те что из Коломны пришли, приблизились, а старые-то московские бояре из тех, что и отцу смели порой возразить, примолкли. Да опять же, кто помер, кого отдалили за неугодностью и ненадобностью.
Другая ныне Москва! Если раньше Юрьева незлобного озорства пугалась, так теперь ласкового Иванова взгляда боится.
И не понимает Юрий, как то брату удаётся? Он, Юрий, бывает гневен до крови, до смерти, а над ним не то чтобы подсмеиваются, нет, конечно, но и на гнев его смотрят со скукой: а чего, мол, ещё от него ожидать? Будто все знают про него, что лишь подл и ничтожен. А Ивана-то - трепещут воистину! Ближние трепещут, дальние боготворят, как и должно быть государю.
Ведь про него (не то что про Юрия!) никто и слова дурного не скажет. Напротив, народ-то ещё и умиляется, глядя, как в великие праздники, а то и в будние дни, пеш возвращается он от заутрени, кротко улыбаясь всякому встречному. Да идёт-то как-то бочком, вроде бы неуверенно: мол, не князь я над вами, люди добрые, всего лишь княжич, не могу осчастливить покудова…
А людишки-то уж тем счастливы, что видят его! И день ото дня крепчают шаги его толстых коротких ног.
- Да неужто и в самом деле, он, Юрий, лишь подл и ничтожен, а Ванька - велик и страшен?
Несправедливо то! Не по чести!
Юрий за это время упрочился в Переяславле. Без татар воротись от Тохты, Андрей Александрович потерял последнюю надежду выбить оттуда племянника. Затаился в бессильной злобе на Городце.
Юрий же, без битвы одержав победу над самим великим князем владимирским, так уверовал в свою мощь, что в первое же лето по смерти отца напал на Можайск.
Можайск был окраинным городом сильного Смоленского княжества. Окраинным, но отнюдь не захудалым и важным по своему значению. Он был связан с узловым перепутьем того времени Волоком-Ламским, через который в Низовую Русь шли латиняне и новгородские гости. Кроме того, стоял он у истоков Москвы-реки. Владея Можайском и Коломной, Москва становилась полноправной хозяйкой всей реки, по имени которой была и названа, от истока до устья.
Читать дальше