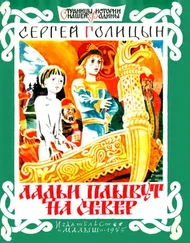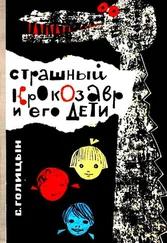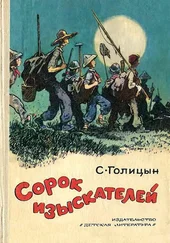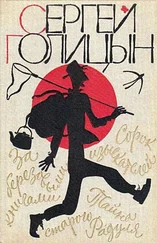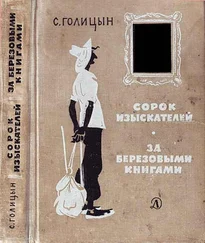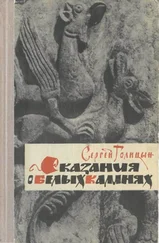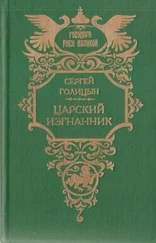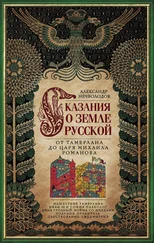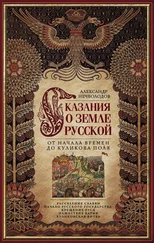Мир между Москвой и Новгородом не мог быть прочным. В Новгороде понимали, что сгущаются тучи над их вольным городом. Прослышали новгородцы, что великий князь вновь «ратью» собирается, стали стены чинить, оружие точить, припасы в Софийский собор и в Кремль свозить. Не хотели новгородские бояре головы перед Москвой склонять, иные между собой шептались: может, к Литве оборотиться?
Но не смог тогда пойти воевать Новгород Василий Темный. Разболелся он «сухотною болестью». Позвали сведущего лекаря, и тот повелел жечь на разных частях тела больного трут. Язвы от ожогов воспалились, и 27 марта 1462 года он скончался в ужасных страданиях.
Его кончина не принесла перемен ни земле Московской, ни всей Руси.
 икогда, с самого нашествия Бату-хана, не затухала в народе русском надежда — сбросить проклятое ордынское иго. Но долгие годы то были далекие мечты. После Куликовской битвы во весь голос заговорили: «Исполнятся наши чаяния в ближайшее время», потом злосчастная феодальная война отодвинула мечты вспять.
икогда, с самого нашествия Бату-хана, не затухала в народе русском надежда — сбросить проклятое ордынское иго. Но долгие годы то были далекие мечты. После Куликовской битвы во весь голос заговорили: «Исполнятся наши чаяния в ближайшее время», потом злосчастная феодальная война отодвинула мечты вспять.
Теперь весь народ русский понял: пришла пора!
К середине XV века главный враг Руси — Орда была далеко не прежней, времен хана Тохтамыша. Золотая Орда распалась в кровавых «замятнях» на отдельные ханства — Крымское, Казанское, Сибирское, Большую Орду, Ногайскую Орду, да еще в Средней Азии возникли ханства. Самой сильной была Большая Орда, располагавшаяся по Средней и Нижней Волге и далее к Уральскому хребту и еще восточнее; позднее от нее отделился улус Астраханский.
В Большую Орду продолжал идти ежегодный и постыдный выход-дань. Оттуда, а также из Казани временами продолжались набеги на Русь. А с Крымом, враждебным Большой Орде, Москва, наоборот, сумела завязать дружбу.
Как будто собиралось достаточно воинских сил. В народе с надеждой смотрели на нового государя московского — старшего сына покойного Василия Темного двадцатитрехлетнего Ивана Васильевича — Ивана III.
Еще при жизни отца он являлся его соправителем. Все грамоты составлялись от имени их обоих. Теперь власть перешла в руки сына.
Был он правитель осторожный и действовал решительно лишь тогда, когда был уверен в победе. А пока стремился своих врагов разделять.
Не однажды успешно хаживали московские полки на Казань. Казанцев заставили подписать мирный договор «по всей воле великого князя». С востока можно было не ждать внезапного нападения.
Иное дело — Большая Орда. В 1465 году хан Махмуд «поиде… со всею Ордою» на Русь. Но крымцы с тыла напали на его улус, он вынужден был отойти, не вступив в бой с полками московскими. Стал ханом Большой Орды Ахмад; в кровавой междоусобице ему удалось поднять мощь своего улуса. В 1467 году он напал на Рязань, через два года опустошил волости между Серпуховом и Каширой.
Москве приходилось держать наготове много войска по своим южным и юго-восточным рубежам. Московские воеводы рассуждали:
«Чего мы ждем да отражаем набеги? Будем полки собирать, готовиться к походу крупными силами на Большую Орду».
А пока дань-выход по-прежнему каждый год доставлялся.
У Большой Орды был заклятый враг — Крымское ханство. Москва решила той враждой воспользоваться, направила в Бахчисарай одного посла, затем другого. Жаловали те послы богатыми дарами хана Менгли-Гирея, его жен и вельмож, уговаривали дружбу держать, и не только против Большой Орды, но и против Польско-литовского королевства. А хан Менгли-Гирей был хитер, он как будто соглашался подписать с Москвой мирный договор, но одновременно вел тайные переговоры и с послом враждебного Москве короля Казимира.
С объединенным Польско-литовским королевством жила Москва в разладе. В Москве никогда не забывали, что исконные русские земли — смоленские, черниговские, верховские (брянские) — и мать городов русских — Киев находились либо под прямой властью короля Казимира, либо зависели от него. Разговаривали люди в тех землях на языке, близком к тому языку, на каком изъяснялись москвичи, рязанцы, владимирцы, новгородцы и по всей Руси Северо-Восточной.
Польские ксендзы стремились насаждать среди подвластного королю русского православного населения католичество. Иные владетельные князья меняли веру, присягали королю, становились его надежными подданными. Но были и такие князья, кто со всем своим двором переходил на службу Москве. В Москве их принимали «ласково», ставили на высокие должности. А король Казимир за такое гостеприимство не один раз высказывал Москве свое неудовольствие, даже грозил войной. Простой народ в тех захваченных поляками землях поднимал восстания против своих поработителей, что не однажды отмечали тогдашние польские хроники.
Читать дальше
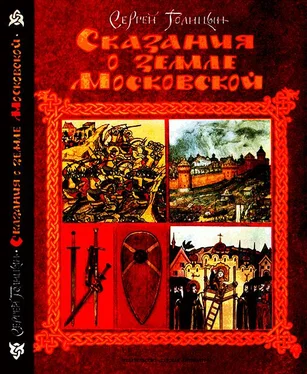
 икогда, с самого нашествия Бату-хана, не затухала в народе русском надежда — сбросить проклятое ордынское иго. Но долгие годы то были далекие мечты. После Куликовской битвы во весь голос заговорили: «Исполнятся наши чаяния в ближайшее время», потом злосчастная феодальная война отодвинула мечты вспять.
икогда, с самого нашествия Бату-хана, не затухала в народе русском надежда — сбросить проклятое ордынское иго. Но долгие годы то были далекие мечты. После Куликовской битвы во весь голос заговорили: «Исполнятся наши чаяния в ближайшее время», потом злосчастная феодальная война отодвинула мечты вспять.