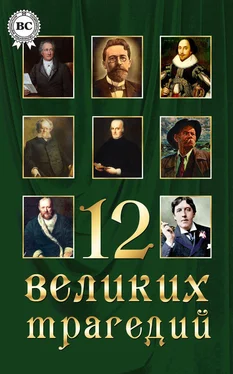Сорин.Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.
Аркадина.Что же я ему сказала?
Сорин.Ты его обидела.
Аркадина.Он сам предупредил, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как у шутке.
Сорин.Все-таки…
Аркадина.Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации… Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть… Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.
Сорин.Он хотел доставить тебе удовольствие.
Аркадина.Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.
Тригорин.Каждый пишет так, как хочет и как может.
Аркадина.Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.
Дорн.Юпитер, ты сердишься…
Аркадина.Я не Юпитер, а женщина. (Закуривает.) Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
Медведенко.Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. (Живо, Тригорину.) А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат – учитель. Трудно, трудно живется!
Аркадина.Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? (Прислушивается.) Как хорошо!
Полина Андреевна.Это на том берегу.
Пауза.
Аркадина (Тригорину) . Сядьте возле меня. Лет 10–15 назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались, непрерывно почти кажду ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и все романы, романы… Jeune premier'om и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую (кивает на Дорна) , доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. (Громко.) Костя! Сын! Костя!
Маша.Я пойду поищу его.
Аркадина.Пожалуйста, милая.
Маша (идет влево) . Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! (Уходит.)
Нина (выходя из-за эстрады) . Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! (Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)
Сорин.Браво! браво!
Аркадина.Браво, браво! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!
Нина.О, это моя мечта! (Вздохнув.) Но она никогда не осуществится.
Аркадина.Кто знает! Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.
Нина.Ах, я так рада… (Сконфузившись.) Я всегда вас читаю…
Аркадина (усаживая ее возле) . Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.
Дорн.Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.
Шамраев (громко) . Яков, подними-ка, братец, занавес!
Занавес поднимается.
Нина (Тригорину) . Не правда ли, странная пьеса?
Тригорин.Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.
Пауза.
Должно быть, в этом озере много рыбы.
Нина.Да.
Тригорин.Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
Нина.Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.
Аркадина (смеясь) . Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.
Шамраев.Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим в галереи: «Браво, Сильва!» – целою октавой ниже… Вот этак (низким баском) : браво, Сильва… Театр так и замер.
Читать дальше