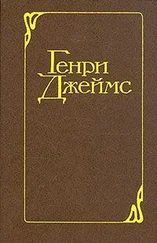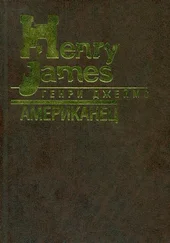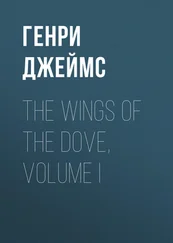Однако интеллект лорда Марка, как оказалось, вполне соответствовал интеллекту Милли, что дало ему возможность растолковать девушке, как мало он способен прояснить ей сложившуюся ситуацию. Он, кстати говоря, объяснил ей – или, по крайней мере, намекнул, – что теперь в Лондоне просто невозможно сказать, кто где находится. Все и каждый находятся везде – и никого нигде нет. Ему было бы ужасно трудно – да-да, если честно – обозначить каким-либо именем или названием «круг» их хозяйки. Да был ли это вообще «круг» или нет и существует ли теперь здесь нечто подобное таким вещам, как круг? – существует ли теперь что-то, кроме движения наугад и ощупью, подобного заблудившимся огромным серым грязным морским валам посреди Канала, движения целых масс растерянных людей, стремящихся «раздобыть» неизвестно что неизвестно где?
Он бросил Милли этот вопрос, показавшийся ей огромным; она чувствовала, что к концу пятиминутного разговора их было брошено ей великое множество, хотя лорд Марк продвинулся вперед всего лишь на шаг или два; возможно, он все же окажется способен дать ей пищу для размышлений, но пока что он не помог ей ни в чем разобраться: он говорил так, будто, слишком много зная, давно утратил всякую надежду на это общество. Таким образом, он занимал позицию на противоположном краю по сравнению с нею самой, но в результате, как и она, блуждал и терялся, и, более того, вопреки его временной бессвязности, ключ к которой, как она догадывалась, несомненно, отыщется, лорд Марк был столь же твердо сложившейся частицей конкретной субстанции, что миссис Лоудер и Кейт Крой. Единственным пятном света, брошенным на первую из этих двух дам, были его слова, что она – необычайная женщина, совершенно необычайная женщина, и «чем больше ее узнаешь, тем необычайнее она оказывается»; тогда как о второй он в тот момент заметил только, что она ужасно – да-да, совершенно ужасно – хороша собой. Милли подумала, что требуется некоторое время, чтобы разглядеть ум сквозь манеру его речи, и тем не менее с каждой минутой она все более принимала на веру это необъяснимое явление, независимо от того, что говорила ей о нем миссис Лоудер, впервые упомянув его имя. Вероятно, здесь был один из тех случаев, о которых она слышала дома, в Америке, – характерный для Англии случай, когда люди скрывают игру ума гораздо охотнее, чем выставляют ее напоказ. Так, правда довольно редко, поступал и мистер Деншер. Но что же делало лорда Марка таким в любом случае реальным, если это был трюк, которым он явно так искусно владел? Каким-то образом эта личина – по жизни, по необходимости, по собственной целенаправленности – снимала с него самого всякую заботу о яркости: ее одной хватало с избытком. Трудно было определить его возраст: то ли он был молодой человек, но выглядел пожилым, то ли – пожилой, но выглядел молодым; ничего не доказывало и то, что плюс ко всему у него была лысина и он как бы несколько зачерствел или, если выразиться более деликатно, скорее, усох; в нем чувствовалась этакая тонкая, чуть заметная суетливая живость человека занятого, а глаза его моментами (хотя это выражение из них могло неожиданно исчезнуть) бывали так искренни и чисты, как глаза милого мальчика. Очень опрятный, очень легкий, очень светловолосый, настолько, что усы его становились заметны лишь потому, что он то и дело их касался – опять-таки совершенно мальчишеским жестом, – лорд Марк произвел бы на Милли впечатление человека самого интеллектуального, если бы не показался самым несерьезным. Это качество виделось ей скорее в его взгляде, чем в чем-либо ином, хотя он постоянно носил пенсне, что придавало ему задумчиво-бостонский вид.
Мысль о его недостаточной серьезности была, несомненно, связана с титулом при его фамилии, который представлял – для нашей юной, слегка запутавшейся женщины – связь с историческим патрициатом, аристократией, с классом, который, в свою очередь, – тут тоже некоторая путаница – имел родовое сходство с той частью общества, которую никогда, на ее слуху, не называли иначе, как «высший свет». Высшая часть нью-йоркского общества всегда понимала, что причислена к этой категории, и хотя Милли сознавала, что в применении к земельной и политической аристократии это название слишком упрощено, другого на тот момент у нее просто не нашлось. Правда, она вскоре обогатила свою идею пониманием, что ее собеседник – человек равнодушный; однако это печальной известности равнодушие, свойственное аристократии, мало что могло ей объяснить, так как она чувствовала, что лорд Марк прежде всего думает продолжить с нею знакомство, а помимо того, мысли его заняты множеством собственных проблем. Если он, с одной стороны, не спускает с нее мысленного взора, а с другой – размышляет о столь многом – доказательством тому служила его манера крошить хлеб, – зачем же он рисуется перед нею, как готовый на дерзость аристократ? Милли не способна была ответить на этот вопрос, а он как раз был одним из тех, что ее теперь обуревали. Она, по справедливости, могла бы сказать, что вопросы эти весьма сложные, а ведь ее собеседник явно знал – знал заранее, что она чужестранка, американка, и тем не менее не придал этому ни малейшего значения, будто Милли и ей подобные были для него главным блюдом его каждодневной диеты. Он воспринял ее по-доброму, но невозмутимо и непоправимо, как нечто само собою разумеющееся, и ей нисколько не могло помочь то, что она быстро поняла – он успел побывать в ее стране и в ней разобраться. Милли не оставалось ничего такого, что она могла бы объяснить, смягчить или – чем похвастать; не могла она ни укрыться за своей чужестранностью, ни использовать ее как преимущество: у него самого, кстати говоря, окажется гораздо больше, о чем рассказать ей на эту тему, чем узнать от нее. Она могла бы узнать от него, почему она так отличается от той привлекательной девушки: она этого не знала, способна была только чувствовать разницу; во всяком случае, она могла бы у него узнать, почему эта привлекательная девушка так отличается от нее самой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу