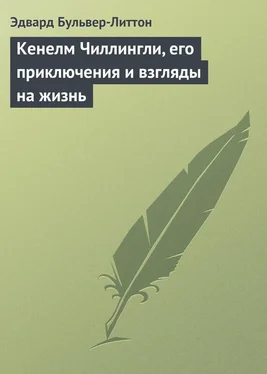Но при всем теоретическом неверии Гордона Чиллингли в такие вещи, которые составляют ходячую веру людей добродетельных, в его поведении ничто не свидетельствовало о склонности к порокам. Он был очень порядочен во всех поступках, а в щекотливых делах чести – любимым посредником среди своих друзей. Хотя он совсем не скрывал своего честолюбия, никто не мог обвинить его в попытках подняться наверх на плечах покровителя. В его натуре не было ничего раболепного, и хотя он был готов, если понадобится, подкупить избирателей, – его самого никакими деньгами подкупить было нельзя. Единственной владеющей им страстью была жажда власти. Он насмехался над патриотизмом – как над отжившим предрассудком, над филантропией – как над сентиментальной суетней. Он хотел не служить своему отечеству, а управлять им. Он хотел возвысить не человеческий род, а самого себя. Поэтому он был неразборчив в средствах и не имел стойких принципов, как это часто наблюдается у карьеристов. А все-таки если бы он добился власти, то, вероятно, воспользовался бы ею с толком, благодаря ясности и силе своих суждений. О впечатлении, которое он произвел на Кенелма, можно судить по следующему письму.
«Сэру Питеру Чиллингли, баронету и пр.
Дорогой отец, ты и моя милая матушка с удовольствием услышите, что Лондон продолжает быть очень любезен ко мне и что arida nutrix legnum [157] [158]поставила меня в число тех ручных львов, которых светские дамы допускают в общество своих болонок. Прошло около шести лет с тех пор, как мне было дано взглянуть мельком на этот калейдоскоп из окошка убежища мистера Уэлби. И мне кажется – может быть, ошибочно, – что даже за это короткое время тон „общества“ заметно изменился. Утверждать, что эта перемена к лучшему, я предоставляю тем, кто принадлежит к партии прогресса.
Я не думаю, чтобы шесть лет назад столько молодых женщин подводили себе глаза и красили волосы. Кое-кто из них, может быть, подражал жаргону, изобретенному школьниками и распространенному мелкими романистами. Может быть, тогда дамы употребляли такие выражения, как „сногсшибательно“, „нагло“, „ужасно весело“, но теперь я нахожу, что многие дошли до такого жаргона, который вообще стоит за пределами человеческой речи, до жаргона ума, жаргона чувств, до такого жаргона, при котором уже очень не много остается от женщины и совсем ничего – от леди.
Газетные публицисты уверяют, будто в этом надо винить современных молодых людей, что молодым людям это нравится, а прекрасные удильщицы мужей нацепляют на удочку таких червячков, какие более всего могут заставить рыбку клюнуть. Справедливо ли это оправдание, я судить не могу, но мне кажется, что люди моих лет, выдающие себя за бойких, гораздо более вялы, чем люди десятью или двенадцатью годами старше, которых они считают сонными. Идея по утрам опрокидывать рюмочку – совершенно новая, и она сейчас в большой моде. Адонис [159]считает необходимым „клюкнуть“, чтоб у него хватило сил ответить на любовную записочку Венеры. У Адониса нет сил напиться допьяна, но его деликатное сложение требует возбуждающих средств, и он постоянно к ним прибегает.
Люди знатного происхождения или известные успехами в обществе, принадлежавшие, дорогой отец, к твоему времени, все еще выделяются своей благовоспитанностью и тоном разговора, более или менее изысканным и не без признаков литературного образования; они непохожи на людей такого же звания в моем поколении, которые, по-видимому, гордятся тем, что не уважают никого и не знают ничего, даже грамматики. Тем не менее нас уверяют, что все в мире непрестанно улучшается. Эта новая идея в большом ходу. Общество в целом удивительно высоко ценит свои достижения в области прогресса, а отдельные личности, составляющие это общество, так же высоко ценят собственные особы. Разумеется, даже при моем кратковременном и неполном опыте я вижу много исключений, не соответствующих преобладающим чертам молодого поколения в обществе. Из этих исключений я приведу только самые замечательные.
Первое – place aux dames [160] – это Сесилия Трэверс. Она с отцом теперь в Лондоне, и я часто встречаюсь с ними. Я не могу представить себе ни одной культурной эпохи, которую такая женщина, как Сесилия Трэверс, не украсила бы собою, потому что именно такою мужчина любит воображать женщину, – конечно, если говорить о лучших сторонах женского характера. Я говорю женщина, а не девица, потому что к современным девицам Сесилию Трэверс причислить нельзя. Вы можете назвать ее девой, девственницей, девушкой, но девицей назвать ее было бы так же неправильно, как назвать француженку хорошего происхождения fille [161]. Она настолько хороша, что может радовать глаз любого мужчины, как бы он ни был разборчив. Но красота ее не ослепляет всех мужчин до такой степени, что уже не может пленить одного. Слава богу, я говорю только на основе теории, но я боюсь того, что любовь к женщине таит в себе сильное чувство собственности, что мужчина желает обладать тем, что принадлежит лишь ему одному, а не тем, что приглашает восхищаться всю публику. Я понимаю, как богач, владеющий великолепным поместьем, открывает роскошные комнаты и прекрасный сад для всех посетителей, но, лишившись уединения, бежит в уютный коттедж, в котором нет никого, кроме него, и о котором он может сказать: „Это мой дом, это все мое“.
Читать дальше