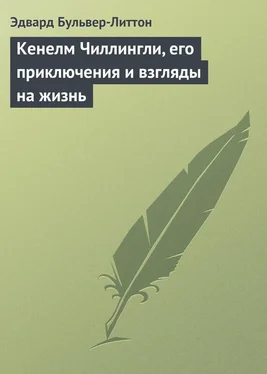– Прогресс века! – задумчиво произнес Кенелм. – Как вы думаете, долго еще сохранится в Англии класс джентльменов?
– Что вы называете джентльменами? Аристократов по происхождению? Дворян?
– Я полагаю, что никакие законы на свете не могут отнять у человека его предков, и класс людей хорошего происхождения уничтожен быть не может. Но подобный класс, если он не несет никаких обязанностей и никакой ответственности и не сознает, что хорошее происхождение требует преданности отечеству и поддержания личной чести, не принесет пользы нации. Государственные люди демократического направления должны признать тот достойный сожаления факт, что класс людей хорошего происхождения уничтожить нельзя, он должен остаться, как остался в Риме и остается во Франции после всех усилий уничтожить его, как класс граждан, самый опасный, когда вы лишите его положительных атрибутов. Я говорю не об этом классе, а о том, свойственном Англии, неопределенном разряде людей, чья этика, без сомнения, первоначально возникла из идеального представления о том, что дворяне обязаны поддерживать понятия чести и правдивости, но которые больше не нуждаются в родословных и поместьях, чтобы произвести их в джентльмены. И когда я слышу, как «джентльмен» говорит: «Мне не остается другого выбора, как думать одно, а говорить другое, как бы это ни было опасно для отечества», – мне начинает казаться, что в прогрессе века класс джентльменов будет заменён какой-нибудь лучшей их разновидностью.
Кенелм встал и хотел уйти, но Гордон схватил его за руку и удержал.
– Дорогой кузен, если вы разрешите вас так назвать, – начал он со свойственной ему откровенной манерой, которая так шла к смелому выражению его лица и к чистому звуку голоса, – я принадлежу к числу тех, кто из отвращения к лицемерию и сентиментальности часто, заставляет людей, не коротко их знающих, думать об их принципах хуже, чем они, того заслуживают. Вполне может случиться, что человеку, следующему за своей партией, не нравятся меры, которые он чувствует себя обязанным поддерживать, и он говорит об этом среди друзей и родных, однако, этого человека все же нельзя считать лишенным добросовестности и чести. И я надеюсь, что, когда вы лучше узнаете меня, то не станете думать, что я унижу тот класс джентльменов, к которому мы оба принадлежим.
– Извините меня за грубость, – ответил Кенелм, – и припишите мои слова неведению того, чего требует общественная деятельность. Мне кажется, что политик не должен поддерживать то, что находит дурным. Но, наверно, я заблуждаюсь.
– Глубоко заблуждаетесь, – сказал Майверс, – и вот по какой причине: прежде в политике был прямой выбор между хорошим и дурным. Теперь это бывает редко. Люди высокого, образования должны или принять, или отвергнуть меру, навязываемую им совокупностью избирателей, людей низкого образования. Поэтому им надо взвесить зло против зла – зло принятия и зло отклонения. И если они решатся на первое, то потому, что это зло будет меньшим.
– Ваше определение превосходно, – сказал Гордон, – и я воспользуюсь им, чтобы оправдать мою кажущуюся неискренность перед кузеном.
– Полагаю, что это и есть реальная жизнь, – сказал Кенелм с печальной улыбкой.
– Разумеется, – подтвердил, Майверс.
– Каждый прожитый мной день, – со вздохом сказал Кенелм, – все более подтверждает мое убеждение, что реальная жизнь – самое фантастическое притворство. Какая нелепость со стороны философов отвергать существование привидений: какими привидениями мы, живые люди, должны казаться призракам!
…Над нами духи мудрецов [156]
На небесах смеются.
Гордон Чиллингли старался поддерживать свое знакомство с Кенелмом. Он часто заходил к нему по утрам, иногда ездил с ним верхом, представил его людям своего круга. Большей частью это были члены парламента, начинающие адвокаты, журналисты, но и не без примеси блистательных лентяев, членов клубов, спортсменов, людей светских, знатных и богатых. Он поступал так намеренно, потому что эти люди говорили о нем хорошо, и не только о его дарованиях, но и о благородном характере. Его обычным прозвищем в их среде было: Честный Гордон. Кенелм сначала думал, что это прозвище ироническое, но скоро понял, что ошибался. Оно было дано ему за чистосердечное и смелое высказывание мнений, отражавших тот откровенный скепсис, который в просторечии называют «отсутствием притворства». Человек этот, безусловно, не был лицемером; он не выступал приверженцем тех верований, которых не разделял. А верил он мало во что – разве только в первую половину поговорки: «Каждый за себя, а бог за всех».
Читать дальше