Надо сказать, что такой непорядок в поведенье этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз, он совершенно не вязался с тем убедительным впечатленьем приветливой разумности, которое приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, го впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для спасенья оставалось достаточно, – а что доля игры тут, безусловно, была, явствовало из поведенья нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.
Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услыхал этот зов на третий раз, во всяком случае, только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда, полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»
Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствуют преувеличенным представленьям, Иаков – или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, – казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность – то ли сознательно, то ли безотчетно – приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупносборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженая, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо – маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни.
На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов – очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, – и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде – к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью – в них сказывался услужливый, приветливый нрав – и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и повадке посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знавал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он в общем-то от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещенья, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.
Читать дальше

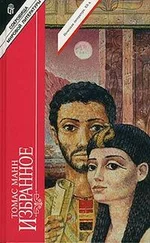
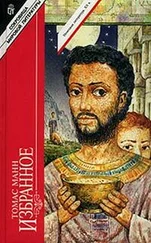




![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)