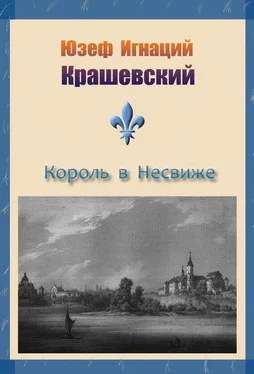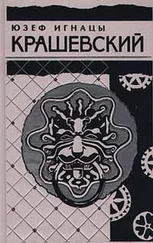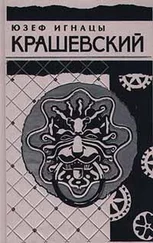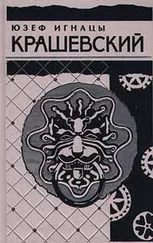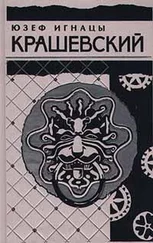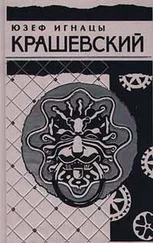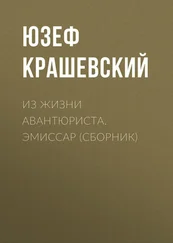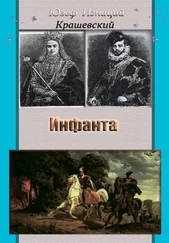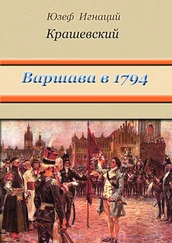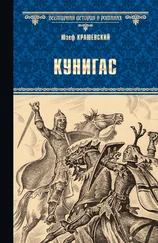Ни этот энтузиазм, немного слишком вызывающий и кричащий, когда после конституции 3 мая Малаховский и Потоцкий шестиоконными каретами, с гайдуками и ливреей, ехали записываться в книги варшавского мещанства, ни братские обещания 31 года не сравнятся никогда значением и авторитетом со скромным, тихим фактом 63 года. За исклучением нескольких минут более громкого запала, всё тут отбывалось в тишине и тайне, которые были порукой искренности. Не могло ничего делаться на показ, потому что ничего не показывалось.
Одной, может, из наибольших жертв, на какие способен человек, были неустанные самопожертвования самолюбию: старшие шли под приказы молодёжи, заслуженные люди в народе с покорностью уступали перед незнакомцами, которые их превосходили запалом.
Не для того, что является нашим, но для святой правды во стократ следует признать, что никогда истории не представили подобной картины. Собираясь нарисовать хоть частицу её, мы чувствуем весьма сильно, как то, что нам кажется бессильным и недостаточным, может нашим внукам (ежели жить будут наши внуки) покажется преувеличенной апологией.
Найдутся даже сверх того люди, которые когда-нибудь, позже, обрисуют тёмные части этой картины, нам она кажется такой ясной и золотистой, пурпурной кровью и синевой надежды окрашенной, как те чудесные изображения, которые вдохновлённая рука благословенного Ангела из Фьезоле рисовала в моменты вдохновления. Как в одних, так в других почти нет теней, те же светлости. С трудом мы могли бы описать ту сцену под сводами старой трапезной, закиданной промышленным железом, где с одной стороны смотрело на собравшихся прошлое этих стен, с другой – настоящее, олицетворённое в рабочих принадлежностях, сцене братского согласия людей, которых единая цель собрала в этом месте. Разные были совещания, но легко остановились на нуждах организации, главные зарисовки которой они приняли. Эти разговоры не входят в рамки нашего романа, мы скажем только, что полковник, который в первый раз осмотривал это здание, а давно уже искал какую-нибудь залу, в которой бы мог безопасно муштровать нетерпеливую молодёжь, воспользовался этим вечером и выпросил себе разрешение и ключ от трапезной. Поскольку не было оружия и ждать его не хотел, палки и деревянные ружья временно заменяли винтовки и штыки. Место было уединённое, со всех мер безопасное, никто не мог догадываться о ночных сходках в пустой фабрике. Загреба ушёл вне себя от радости.
* * *
Если бы можно было просмотреть всю борьбу, какую в душе человека ведёт его склонность к плохому с остатками добродетели, а часто какой-то непонятный фатализм, гонящий к злу, который средние века называли дьяволом – эта драма души была бы в действительности горячо занимательней, чем все греческие трагедии.
Нет, наверное, человека, которому бы в жизни не приходили плохие мысли, но это – зёрна, которые рассеивает ветер, лишь плохое дело укоренит сорняк навеки. Как те тернии и чертополохи наших полей, которые, скашиваемые каждый год, с каждой весной возвращаются, так поступки какой-то тайной силой связывают человека со злом… Кто раз напился – будет пить, говорит французская поговорка.
Преслер вернулся домой, борясь с собой, то охваченный искушением воспользоваться этим открытием, то чувствуя к нему отвращение, то откладывая на потом и т. п. Он чувствовал, что этот решительный шаг может его либо высоко поднять, либо ему дорого стоить; игра была небезопасная и крупная.
Минутами ему было немного жаль этого честного полковника, который ему доверял и, несмотря на воспоминания, достаточно невыгодные, не совсем его осуждал, о других речь шла гораздо меньше.
Этим вечером против своего обыкновения, он вернулся трезвым, что сильно удивило жену, и, взяв ключ, пошёл к себе на верх. Его слышали долго ходящего, тяжко вздыхающего, а около полуночи спустился к Кахне, требуя, чтобы принесла ему водки. Горничная, которая никогда подобных посольств без ведения пани не предпринимала, пошла спросить её разрешение.
Отсюда возникла натуральная бурная сцена, супружеская склока, взаимные угрозы и пререкания, и поручик, хлопнувши дверью, сам пошёл в шинку. Жена ему только объявила, что по возращению его в дом не пустит…
– Возьми тебя дьявол с твоим домом, – крикнул взбешённый поручик, и потащился к пани Шимоновой на Беднарскую.
Здесь ещё светилась одна маленькая лампочка, несколько каких-то людей общалось в другой комнате, а в первой с удивлением он застал, якобы дремлющего знакомого коллегу, некоего Мушинца, который, все положения и ремёсла в жизни испробовав, наконец обосновался аж в полиции. Мушинец, щуплый малый с одним глазом, потому что другой где-то в дороге жизни потерял, больше видел одним, чем многие люди двумя. Был это чертёнок – не человек, на вид тщедушный, а стойкий, как железо. Он на самом деле имел тот же изъян, что Преслер, так как был зависимым пьяницей, но он владел зависимостью, не зависимость им. Временами по четыре недели водки в рот не брал, никакого алкоголя не пробовал, потом вдруг закрывался на несколько дней, пил даже до болезни, и выходил бледный, уставший – но уже трезвый. Мушинец был самым опасным из шпионов, потому что имел чрезвычайно много ловкости, ему не нужно было всего слышать, много догадывался, а с каждым человеком его языком умел говорить. Бывалый старик, он не терпел поручика, поручик его тоже не переносил, но оба делали вид сердечных приятелей. Преслер нахмурился, увидев противника на своём месте, поздоровался с ним, однако, достаточно вежливо и primo imp etu [3]пошёл выпить водки, чувствуя себя каким-то ослабевшим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу