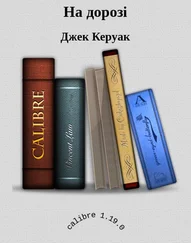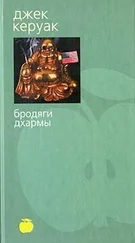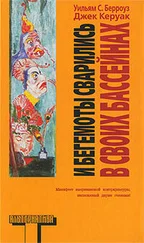Мы въезжаем в Мехико; (откуда мы знаем?).
Великие возбужденные футбольные поля сумерек и ветрохлеста привлекли наше внимание в первую очередь; снаружи на равнинах, за городом, где монастыри смешивают территории сельского хозяйства с асиендами и винодельнями, мы ощущаем этот ветер уже по-настоящему, я рву по равнине под ревущим деревом, огромным, сто футов, и глаза мои устремлены на тот розовостенный сливочный монастырь напротив, где бродят призраки дневных очертаний в саванах, неся с собою яблоки; теперь тот ветер, что озернился от виноградников, дунул, рвя поперек далеких фабричных футбольных полей пригородного Мехико с громадными беспорядками и договорами в промежутках, лупя, как ненормальный, и поток транспорта отказывается останавливаться. «Ты глянь, как пинают!»
И о печальные улицы
в затерянных саманах
Calle de Los Niños Perdidos [69].
«Ты врубись в это уличное движенье , чувак!» – вопит Коди – мы только что вломились в сам город – я вижу, Коди в осложненьях, потоки транспорта шпарят вокруг него, мы вдруг осознаем, что ни у кого на машинах нет глушителей, шум криклив. На горизонте арена боя быков, el Cuarto Caminos , Четыре Дороги сходятся, равнина, по воскресным дням они убивают быка и через каменностену напротив поля, где ревет эхо, первобытные ацтеки по-прежнему сидят в своей каменной деревне на грязном ручье, каменные мостики его перекрывают, центр камня сношен так, что тебе приходится аккуратно пробираться по желобу в мостике, которому тысяча лет. Машина – остановили нас – хотим ли мы блядей? Огни, первые серого вечера, зажглись впереди в Метрополе; мы сообразили, что миновали всю землю.
В моем сне о Незнакомце в Саване, который преследовал меня по пустыне и поймал меня пред вратами в Вечный Град, белые глаза во тьме его розистых складок, огнестопы в пыли, что удушала меня до смерти во сне, он меня нипочем не поймает, если тогда не нагнал, когда вступили мы во врата Мехико-Града, он пришел из той земли и уходил туда же, в тот же час дня, синесумерки, сумрак…. К тому ж, еще есть сон о золотой дорожке, доме, древесной тени, какие населяет Саванька в облике моей матери, а затем проецирует себя на тень через мерцающую жару, что кидается на меня; я прошу у матери игрушечное ружье, каким его можно застрелить: он не поймал меня в яви, либо, если и поймал, и я теперь пойман, отчебменядрал, если я знаю, какую часть – где – в каком прекрасном вымысле грезы он охромел и – золотая луна блистает над деревнею бедняков, уже, образностью своею и пламенем, перевернула спящих крыши настлать простыни и саваны на карниз побезумней; старый Искусно-Звездный, Иерусалимский Пастырь, превращенный в сонный влажный глаз ночи, разбрасывает искрянки и жаркие трескучки на город, полночь росиста, синее багдадское небо Взаправды – в окне, златые млечные башни, что взносятся, зависевши в небе ночи, представляют собой наблюдательные посты для вдумчивых пастухов, дремлющих ради зари и ботал. Это город, где Саванный Чужак отверг меня, он удавил меня до смерти в платье своем, и я проснулся с башнями синевы пред последним взором моим. Десять долларов, пожалуйста, навещать больше не надо. Ладно, посему я ставлю на Синюю Пену – Цзынь-а-линь.
Мехико было дном и концом дороги, всерасширяющейся американской дороги, потому что теперь дальше она уже не пройдет, четыре полосы, пять рядов, шесть рядов, бедная дорога, дальше там уже так мало того, что было «американским», «северо-американ-о», что Коди и не думал ехать дальше за Город, скажем, к Куэрнаваке, потому что, черт, вместо этого он ввязался в круговую развязку и – «Вот скорая едет, видимо, это скорая», – говорю себе я, как из серых закраин некоего вы-говорения от под-бульвара Реформа едут дикие кренящие глаза э – Феллахская Неотложка едет! Ее ведут босоногие интерны, индейцы, без рубашек, пригнувшиеся пониже к баранке, жирные и безумные, щерясь себе дальше за рулем, герои Панчо Вильи и великих Дымных войн в кактусах вона тама, он ведет неотложку, как Коди Мехико-Града…. Вот подъезжает! воет сирена! семьдесят миль, восемьдесят в час по городским улицам, люди, транспорт расступаются, он несется без всяких этих препятствий американских и западно-европейских (включая французские), что водители неотложек мучительно принимают, когда их вынуждают метаться и вилять в плотных Главных улицах центров Дэбьюка и Маккука серой трагичной земли, что ныне покрыта белыми бунгало в дроздовом дожде 1952-го; неотложке следует позволять дуть через весь город; индеец только приоткрылся, как пушечное ядро, и целит в свой город: они, все индейцы, принимают его знанье и мудрость и уступают ему путь – иначе бедствие, он легко несется юзом на пьяных чокнутых колесах в неистовстве полета, словно чайка, взлетающая с воды, он сидит сальный под иконой в зеленом свете, сумраке; Феллахская Мировая Неотложка, она может взорваться в любую минуту, врачи, интерны, пациенты и сочувствующие рукодержатели все в одном расхлясте на трестеклянных тротуарах, хрунь, флёрп. Вэл Хейз делает шаг вперед, палец на отлете —
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу