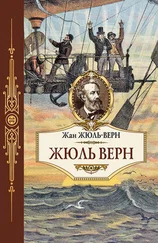– Ну вот вы в прекрасном виде теперь, – сказал Фаржас, – идите пить кофе, а Брессоре сыграет вам свой знаменитый отрывок…
– Я в отчаянии, мой милый, – сказала Крэси, – но мы уезжаем… Так как ты был очень мил для меня когда-то, я не хотела тебе сделать неприятности и вот как видишь, приехала… Но я спешу, честное слово!.. Меня ждет один бразильянец… по очень важному делу.
– Что он такое, твой бразильянц?
– Ты его увидишь… вы все увидите… Он построил мне целый отель, этот дурак… Мы справим там новоселье, непременно!.. Я хочу веселых и неглупых людей… И так, я вас всех приглашаю лично!
– А бразильянец?
– Бразильянец?.. Он будет в числе моей мебели!
«Clèry-sur-Meuse.
Июль 185…
Мой милый Шаванн, мне пересылают ваши письма из Парижа. Прошу у вас извинения, что не написал вам раньше, чем сюда приехал. У меня умер мой дядя, старший брат моего отца, единственный мой родственник… Мой отец вам часто говорил о нем. Я приехал слишком поздно. Дядя мой уже умер. Я не хотел посылать вам банального приглашения на похороны. У меня было тысяча дел, печальные хлопоты… Наконец я могу с вами побеседовать.
У меня еще перед глазами и в сердце похороны, катафалк, освещенный множеством свечей, гроб с крестом, фермеры, пришедшие издалека, запыленные, с черными шляпами в руках, старые слуги, оставленные с пенсионом, семидесятилетние старики, служащие еще, их сыновья, занявшиеся торговлей и делающие себе карьеру, собравшиеся и столпившиеся около трупа их патрона, товарища по сражениям, старые, еще крепкие молодцы с ленточками ордена Почетного Легиона, – воспоминанье о моем отце, живущее еще тут и там, незнакомые объятия, открывающиеся сыну господина Анри, как меня называют здесь… Для людей нашего поколения, для века, не имеющего прошлого, для нашего обособленного мира с личными радостями и страданиями, такое зрелище есть как бы последнее представление этой клиентуры дружественной и преданной, которая составляла в семействе прочный фундамент, свадебный кортеж, погребальное шествие… Затем черные группы женщин в трауре, которые провожают здесь покойника до самой могилы, ограда из национальной стражи, которая смотрит строго, и высунувшиеся из всех окошек головы, провожающие гроб… Да, это как бы последнее явление социальной поэзии, которую убил свод законов. Все в их печали было благородно, просто, прилично; редкая вещь – не было никаких грубых происшествий и даже фермеры, угостившиеся на постоялом дворе, отнеслись с уважением к похоронным поминкам.
Дом совершенно пустой. Я брожу по нем взад и вперед. Это прекрасный большой дом с широкой каменной лестницей, большими комнатами, галереями полными портретов. Я узнал старые обои в зале, изображающие сады Константинополя и турок из «Тысячи и одной ночи»; также и палисадник, и оранжерею, эту красивую оранжерею, в которой прежде давались комедии, вместо того, чтобы вмещать апельсинные деревья; над дверью покатывается со смеху изображение Гро-Рене с током из перьев на голове, раструбами из брыжжей, с одним усом вверху, другим внизу; на всех простенках фасада изображены веселые символы, орудия веселья и смех, высеченные из цельного камня.
Бедная зрительная зала! Любимая мечта светского человека, который построил этот дом, прошел добрый век с тех пор как старый торговец башмаков, этот добрый малый, составивший себе состояние, устроился тут; влюбленный в театр, без ума от музыки, он в конце своей жизни, сидя на ступеньках крыльца, забавлял мальчишек ужасными звуками своей милой скрипки. Столовая осталась такою же, как и была, когда я совсем еще маленький видел в ней моего дедушку с тросточкой, положенной на стуле рядом с ним, бормотавшего брань своим беззубым ртом, всегда курящего, всегда зажигающего угольком свою вечно потухающую трубку… Трость его, милый Шаванн, не всегда лежала на стуле; он употреблял ее в блаженное время в своем замке Сомрёз, в то время, когда палочные удары воспитывали слуг и привязывали их к своим господам, да простит мне это Бог, как фамильярность. Надо послушать по этому поводу старую Марию-Жанну, которая все еще живет, – она была его кухаркой; она расскажет вам с своего рода забавным благоговением об ударах, раздаваемых одним, другим, ей самой наконец… Я даже не мог открыть в ней ни малейшего неудовольствия за то, что она была несколько раз выкупана в воде по приказанию моего дедушки, чтобы охладить ей кровь и помешать думать о замужестве! Старая Мария-Жанна! Это целая книга воспоминаний! С утра до вечера сидит она в мелочной лавке своего сына и постоянно рассказывает одно и тоже о моем отце, о дяде, о дедушке, обо всех родственниках, о всей семье… И в воспоминаниях старой служанки, надутой честью и гордостью дома, встает прежний образ жизни, буржуазное довольство замка Сомрёза, роскошный прием, данный моим дедушкой какому-то итальянскому принцу, имя которого она удивительно коверкает… «Мой дядя был честный, чересчур честный человек, «глупец» в хорошем смысле, какой Наполеон придавал этому эпитету, говоря Лас-Казасу: «Я не расточаю его всему миру…»
Читать дальше