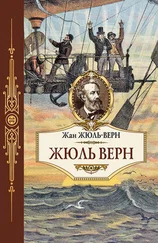– Имя свиньи, которая выдумала трюфели! – прервал Брессоре, кладя несколько штук к себе на тарелку.
– Знаешь, что я видел? – продолжал Франшемон, мысли которого приняли иное направление, – на последней художественной выставке, я видел народ… Знаешь, куда он стремился, где была давка. Перед витриной коронных бриллиантов, слышишь ли ты?.. Эссенция банковых билетов, снадобье из миллионов, вот что его ослепляло! Бриллианты, Ламперьер, только бриллианты!..
– Тебе, может быть, хотелось, чтобы он смотрел на картины? Ну, а мне нет. Искусство производит в целом народе тоже, что и в отдельном человеке; делает его равнодушным к отечеству, эгоистичным; перед его глазами могут совершаться какие угодно перемены в правлении, в идеях, в общественном строе, не вызывая с его стороны никакого участия. Артистический народ такой народ, который умеет жить: он отрицает преданность, жертвы, смерть. Верь мне, что была серьезная причина и мудрое вдохновение в подозрительном отношении и в упорной враждебности Конвента к искусству.
По мнению рассудительных политиков, первое условие силы и здоровья народа заключается в его невежестве. – И понижая голос, Ламперьер продолжал: – Да, у артиста нет ни веры, ни отечества; искусство заменяет ему и то, и другое, стремление к прекрасному есть тоже своего рода преданность, жертва; теперь перейдем от артиста к любителю и от творчества к страсти… Неужели ты думаешь, что из Ремонвилля выйдет хороший патриот? Э, нет, на его лице можно прочесть, что отечество для него составляют его картины!
– Послушай, Ламперьер, замолчи! – крикнул Ремонвилль.
– А я тебе скажу, что правда только в искусстве. Ты говоришь об отечестве, так знай, что бессмертие отечества в искусстве… Кроме того, только великие народы были артистичны… Или ты думаешь, что греческие патриоты за 500 лет до Рождества Христова стояли ниже современных!.. И, наконец, что мне за дело до всего этого! Для меня искусство есть единственная безусловность; все остальное, логика, положительные науки, теология, трактаты о правде и добре, философия, говорящая вам: «я объясняю вам феномены мысли», все это гипотезы, мой милый! Гипотезы, ведущие ученых к почестям, но ничего кроме теорий не дающие прочим смертным… Искусство… послушай, Ламперьер, не говори мне подобных вещей… ты меня злишь… в Риме…
– Рим! – комическим тоном воскликнул Брессоре.
– Вы были в Риме? – спросил де-Ремонвилль, обращаясь к Демальи.
– Да, – сказал Демальи, – я видел там маленькую руину в большой… Господина Созе в Колизее.
– Хочешь, я расскажу тебе мое путешествие в Рим? – сказал Брессоре.
– Я запрещаю тебе говорить мне о Риме, слышишь ты? – сказал Ремонвилль злым голосом. – Когда не знаешь по латыни…
– Но, мой милый, Гомер знал латинский язык не более меня… даже может быть менее.
– Ты глуп!
И Ремонвилль повернулся к нему спиною.
– Однако же, сказал прерывая свое молчание Франшемон, который жевал в своем углу, занятый своими мыслями, – надо управление, хоть бы пасторат какой-нибудь… Какое? Полюбовное, с общего согласия, конституционное управление… Управление… Послушайте, господин Демальи, какое по-вашему должно быть управление.
– Развратное управление, – проговорил Шарль, – если уж нет другого слова. Другими словами, мысль Ришелье в формах Морепа… Самое сильное из управлений, потому что оно основано на знании людей, вместо того, чтобы быть основанным на системах… Тюрго всегда будет строить свое здание на песке.
– А ты Брессоре, – промолвил Ремонвилль насмешливым тоном, – на чем построишь ты свое управление?
– Очень просто, на двух вещах: на фейерверках, которые буду давать каждый вечер народу, и на процессе Лафаржа, который будет вестись каждое утро для просвещенных классов.
– А я, – сказал Ламперьер, – я тогда построю его на иллюзиях.
– Это может быть потому, что ты лучше нас, – сказал Франшемон, протягивая ему руку.
«Книга моя идет, мой милый Шаванн. Издатель не скрывает от меня своего удовольствия. Так, что дела идут хорошо. Меня продают и читают. Я думаю, раз дело начато и успех будет увеличиваться, и я готов почти поверить, что книги продаются.
Я говорил вам о мире, в котором живу. Говорил о Франшемоне. Снаружи – аффектация дендизма, который теряется в разнузданности; между его утонченностями вдруг прорывается самая странная раздвоенность, какая-то зацепка вроде трещины на его часах, заклеенной хлебным мякишем. Вот он каков.
Читать дальше