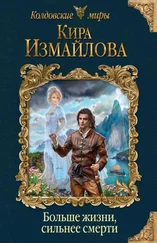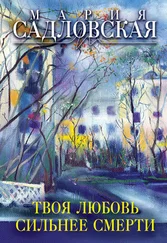– Надеюсь.
Она рассматривала начатую пастель как женщина, понимающая толк в искусстве. Отошла немного, затем приблизилась, приложив щитком руку к глазам, отыскала место, откуда эскиз был всего лучше освещен, и, наконец, выразила свое удовлетворение:
– Очень хорошо. Пастель вам отлично удается.
Польщенный, он прошептал:
– Вы думаете?
– Да, это тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для маляров.
Уже двенадцать лет она поощряла в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его возвратами к простой действительности и, высоко ценя светское изящество, мягко направляла его к идеалу несколько манерной и нарочитой красоты.
Она спросила:
– А какова собой эта княгиня?
Начав с замечаний о туалете, он перешел к оценке ума и сообщил множество подробностей, тех мелких подробностей, которые так смакует изощренное и ревнивое женское любопытство.
Она спросила вдруг:
– А не кокетничает она с вами?
Он рассмеялся и побожился, что нет.
Положив обе руки на плечи художника, она пристально посмотрела на него. В ее взгляде был такой жгучий вопрос, что зрачки дрожали в синеве ее глаз, испещренной еле заметными черными крапинками, похожими на чернильные брызги.
Она снова прошептала:
– Правда не кокетничает?
– Да нет же.
Она прибавила:
– Впрочем, меня это не беспокоит. Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите. Никого… Кончено, слишком поздно, мой бедный друг.
Он почувствовал ту мимолетную щемящую боль, которая отдается в сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал:
– Ни сегодня, ни завтра – никогда в моей жизни не было и не будет никого, кроме вас, Ани.
Она взяла его под руку и, вернувшись к дивану, усадила рядом с собою.
– О чем вы думали?
– Искал сюжет для картины.
– В каком роде?
– Сам не знаю, вот и ищу.
– А что вы делали за последние дни?
Ему пришлось рассказать ей обо всех гостях, которые у него перебывали, об обедах и вечерах, разговорах и сплетнях. Впрочем, все эти суетные и обыденные мелочи светского быта одинаково занимали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или подозреваемые связи, раз навсегда установившиеся суждения, тысячу раз высказанные и тысячу раз выслушанные по поводу все тех же лиц, тех же происшествий, тех же мнений, занимали их ум и втягивали их в течение мутной, бурливой реки, которую называют парижской жизнью. Зная всех, принятые повсюду, – он как художник, перед которым были раскрыты все двери, она как изящная женщина, жена депутата-консерватора, – они были искушены в этом спорте французской болтовни, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовни, которая создает своеобразную и весьма завидную репутацию всякому, чей язык особенно изощрился в этом злоречивом пустословии.
– Когда вы придете к нам обедать? – спросила она вдруг.
– Когда хотите. Назначьте день.
– В пятницу. У меня соберутся герцогиня де Мортмэн, Корбели и Мюзадье; будем праздновать возвращение моей дочурки – она приезжает сегодня вечером. Но никому не говорите. Это секрет.
– О, конечно, я приду. Мне будет очень приятно снова увидеть Аннету. Я ведь не видел ее уже три года.
– Правда! Уже три года.
Аннета, которая воспитывалась сначала в Париже, у родителей, стала последней и страстной привязанностью своей полуслепой бабушки г-жи Параден, жившей круглый год в имении зятя, усадьбе Ронсьер, в департаменте Эры. Старушка с течением времени все дольше удерживала при себе ребенка, и так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом поместье, куда их постоянно призывали всевозможные дела, хозяйственные или избирательные, то в конце концов они стали лишь изредка привозить девочку в Париж, да и сама она предпочитала свободную и привольную деревенскую жизнь городской жизни взаперти.
За последние три года она ни разу не приезжала в город: графиня предпочитала держать ее вдали – чтобы не пробудить в ней какой-нибудь неожиданной склонности, – пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Г-жа де Гильруа приставила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и стала чаще ездить к своей матери и дочке. К тому же пребывание Аннеты в поместье было почти необходимо ради старухи-бабушки.
Прежде Оливье Бертен каждое лето проводил полтора-два месяца в Ронсьере, но последние три года был вынужден лечить ревматизм на отдаленных курортах, и эти поездки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он не в силах был снова покинуть его.
Читать дальше