С Моной я использовал другой язык. Вслушиваясь в мои монологи, она вскоре уже улавливала концы блистательных цитат, всю «фантастическую» (на ее взгляд) терминологию – толкования, смыслы и, так сказать, «морфологические экскременты». Она частенько прочитывала страничку-другую, сидя на стульчаке. Вполне достаточно, чтобы ошарашить меня несколькими фразами с иностранными именами и названиями. Короче говоря, научилась возвращать мяч, что было и приятно, и вдохновляло. Все, чего я требовал от слушателя, когда закруглялся, – это хотя бы видимости понимания. Благодаря длительной практике я овладел искусством вкладывать в слушателя какие-то основы, просвещать его ровно настолько, чтобы я мог потом обрушивать на него свой словесный фонтан. Так я одновременно сообщал ему некие знания – и вводил в заблуждение. Когда я видел, что он начинает чувствовать себя уверенно, я выбивал у него почву из-под ног. (Не так ли действуют мастера дзен-буддизма, когда лишают своего ученика опоры, с тем чтобы дать ему взамен другую, в действительности опорой не являющуюся?)
Мону это приводило в бешенство. Что было естественно. Но тогда появлялась восхитительная возможность устранить противоречия в моих утверждениях; это означало развитие мысли, ее уточнение, возгонку, конденсацию. Таким манером я пришел к некоторым примечательным заключениям не только относительно суждений Шпенглера, но относительно мысли в целом, относительно самого мыслительного процесса. По-моему, лишь китайцы понимали и ценили «игру мысли». Как ни восхищался я Шпенглером, истинность его суждений никогда не казалась мне столь великой, как удивительная игра его мысли… Сейчас я думаю, очень жаль, что на фронтисписе этого феноменального произведения не воспроизвели гороскопа автора. Подобного рода ключ совершенно необходим для понимания характера и сущности этого исполина мысли. Когда задумываешься о смысле, которым Шпенглер нагружает фразу «человек как интеллектуальный кочевник», понимаешь, что, выполняя свою задачу, он близко подошел к тому, чтобы стать современным Моисеем. Насколько страшней эта пустыня, в которой вынужден скитаться наш «интеллектуальный кочевник»! Он не видит земли обетованной. На горизонте нет ничего, одни пустые символы.
Мост через бездонную пропасть между древним человеком, который мистически принимал участие во всем, и современным человеком, не способным общаться иначе как посредством чистого интеллекта, может быть возведен только человеком нового типа, человеком с космическим сознанием. Мудрец, пророк, предсказатель – все говорили на языке Апокалипсиса. С древнейших времен единицы пытались сойти с предначертанного пути. Некоторым это, несомненно, удалось – и они навечно избежали западни.
Морфология истории, какой бы убедительной, увлекательной, вдохновляющей она ни была, остается мертвой наукой. Шпенглера не интересовало то, что находилось за пределами истории. Меня это интересует. Других интересует. Даже если «нирвана» всего лишь слово, это не пустое слово, оно содержит в себе надежду. «Тайна», хранящаяся в сердце мира, еще может быть извлечена на свет. Уже века назад эту тайну объявляли «открытой».
Если ключ к тайне жизни в том, чтобы жить, так давайте жить – жить более полнокровной жизнью! Учителей жизни не найти в книгах. Это не исторические фигуры. Они обитают в вечности и непрестанно зовут нас присоединиться к ним в вечности.
Рядом со мной, когда я пишу эти строки, лежит фотография, вырванная из книги, – фотография неведомого китайского мудреца, живущего в наше время. То ли фотограф не знал, кто он такой, то ли мудрец утаил свое имя. Мы знаем только, что он из Пекина; других сведений нам не сообщают. Когда я смотрю на эту фотографию, у меня такое чувство, что он здесь, со мною в комнате. Он живее – даже на фотографии – всех, кого я знаю. Он не просто «человек духовный» – он олицетворение духовности. Можно сказать, он – сама Духовность. Все это сосредоточилось в выражении его лица. Взгляд, устремленный на вас, сияет радостью и внутренним светом. Он говорит открыто: «Жизнь – это блаженство!»
Вы полагаете, что для него, взирающего на мир с той выси, на которую он – безмятежный, легкий, как птица, познавший всю всеобъемлющую мудрость – вознесся, морфология истории что-то значит? Здесь не встает вопрос о замене горизонта лягушки на горизонт орла. Здесь мы имеем горизонт Бога. Он «там», и его положение неизменно. Горизонт ему заменило сострадание. Он не проповедует мудрость – он излучает свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
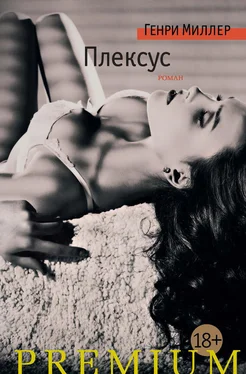

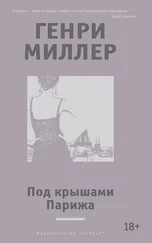
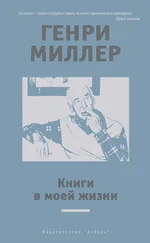
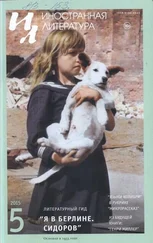

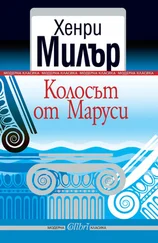
![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)