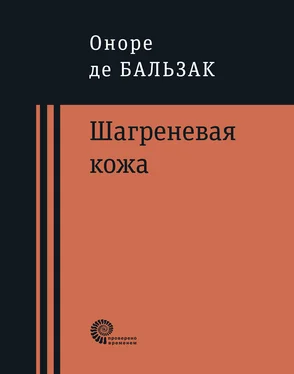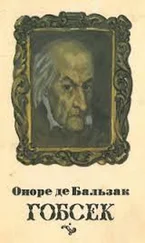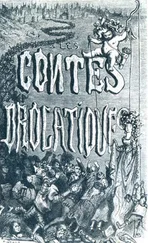– А вы бы вышли замуж за пэра Франции? – спросил я холодно.
– Пожалуй, если б он был герцогом.
Я взял шляпу и поклонился.
– Позвольте проводить вас до дверей, – сказала она с убийственной иронией в тоне, в жесте, в наклоне головы.
– Сударыня…
– Да, сударь?..
– Больше я не увижу вас.
– Надеюсь, – сказала она, высокомерно кивнув головой.
– Вы хотите быть герцогиней? – продолжал я, вдохновляемый каким-то бешенством, вспыхнувшим у меня в сердце от этого ее движения. – Вы без ума от титулов и почестей? Что ж, только позвольте мне любить вас, велите моему перу выводить строки, а голосу моему звучать для вас одной, будьте тайной основой моей жизни, моей звездою! Согласитесь быть моей супругой только при условии, если я стану министром, пэром Франции, герцогом… Я сделаюсь всем, чем только вы хотите.
– Недаром вы обучались у хорошего адвоката, – сказала она с улыбкой, – в ваших речах есть жар.
– За тобой настоящее, – воскликнул я, – за мной будущее! Я теряю только женщину, ты же теряешь имя и семью. Время чревато местью за меня: тебе оно принесет безобразие и одинокую смерть, мне – славу.
– Благодарю за красноречивое заключение, – сказала она, едва удерживая зевок и всем своим существом выказывая желание больше меня не видеть.
Эти слова заставили меня умолкнуть. Я выразил во взгляде свою ненависть к ней и убежал. Мне нужно было забыть Феодору, образумиться, вернуться к трудовому уединению – или умереть. И вот я поставил перед собой огромную задачу: я решил закончить свои произведения. Две недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Несмотря на все свое мужество, вдохновляемое отчаянием, работал я с трудом, порывами. Муза покидала меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодоры. Каждая моя мысль сопровождалась другой, болезненной мыслью, неким желанием, мучительным, как упреки совести. Я подражал отшельникам из Фиваиды. Правда, я не молился, как они, но, как они, жил в пустыне; вместо того чтобы рыть пещеры, я рылся у себя в душе. Я готов был опоясать себе чресла поясом с шипами, чтобы физической болью укротить душевную боль.
Однажды вечером ко мне вошла Полина.
– Вы губите себя, – умоляющим голосом сказала она. – Вам нужно гулять, встречаться с друзьями.
– Ах, Полина, ваше пророчество сбывается! Феодора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь для меня невыносима.
– Разве одна только женщина на свете? – улыбаясь, спросила она. – Зачем вы вечно себя мучаете? Ведь жизнь и так коротка.
Я устремил на Полину невидящий взгляд. Она оставила меня одного. Я не заметил, как она ушла, я слышал ее голос, но не улавливал смысла ее слов. Вскоре после этого я собрался отнести рукопись к моему литературному подрядчику. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег, я знал только, что четырехсот пятидесяти франков, которые я должен был получить, хватит на расплату с долгами; итак, я отправился за гонораром и встретил Растиньяка, – он нашел, что я изменился, похудел.
– Из какой ты вышел больницы? – спросил он.
– Эта женщина убивает меня, – отвечал я. – Ни презирать ее, ни забыть я не могу.
– Лучше уж убей ее, тогда ты, может быть, перестанешь о ней мечтать! – смеясь, воскликнул он.
– Я об этом думал, – признался я. – Иной раз я тешил душу мыслью о преступлении, насилии или убийстве, или о том и о другом зараз, но я убедился, что не способен на это. Графиня – очаровательное чудовище, она будет умолять о помиловании, а ведь не всякий из нас Отелло.
– Она такая же, как все женщины, которые нам недоступны, – прервал меня Растиньяк.
– Я схожу с ума! – вскричал я. – По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Мысли мои – словно призраки: они танцуют предо мной, и я не могу их схватить. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, в Феодоре из предместья Сент-Оноре, а в моей Феодоре, которая вот здесь! – сказал я, ударяя себя по лбу. – Какого ты мнения об опиуме?
– Что ты! Страшные мучения, – отвечал Растиньяк.
– А угарный газ?
– Гадость!
– А Сена?
– И сети и морг очень уж грязны.
– Выстрел из пистолета?
– Промахнешься и останешься уродом. Послушай, – сказал он, – как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве. Кто из нас к тридцати годам не убивал себя два-три раза? Однако я ничего лучше не нашел, как изнурить себя в наслаждениях. Погрузившись в глубочайший разгул, ты убьешь свою страсть… или самого себя. Невоздержанность, милый мой, – царица всех смертей. Разве не от нее исходит апоплексический удар? Апоплексия – это пистолетный выстрел без промаха. Оргии даруют нам все физические наслаждения: разве это не тот же опиум, только в мелкой монете? Принуждая нас пить сверх меры, кутеж вызывает нас на смертный бой. Разве бочка мальвазии герцога Кларенса [110]не вкуснее, чем ил на дне Сены? И всякий раз, когда мы честно валимся под стол, не легкий ли это обморок от угара? А если нас подбирает патруль и мы вытягиваемся на холодных нарах в кордегардии, то разве тут не все удовольствия морга, минус вспученный, вздутый, синий, зеленый живот, плюс сознание кризиса? Ах, – продолжал он, – это длительное самоубийство не то, что смерть обанкротившегося бакалейщика! Лавочники опозорили реку, – они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью так, как я тебе говорил, – я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. У эльзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге, – я не могу жить с шестипалой женой! Про это узнают, я стану посмешищем. У нее только восемнадцать тысяч франков дохода, – состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К черту!.. Будем вести безумную жизнь – может быть, случайно и найдем счастье!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу