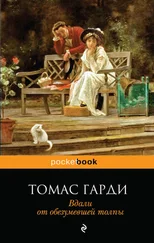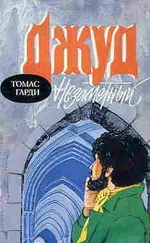Когда кончили ужинать, Когген по собственному почину, не дожидаясь, чтобы его попросили, затянул песню:
Потерял я милушку, и ну ее,
Потерял я милушку, и ну ее,
Найду себе другую,
Подружку дорогую,
Потерял я милушку, и ну ее!
Сидящие за столом выслушали этот романс молча, уставившись на певца задумчиво-одобрительным взглядом, свидетельствующим о том, что эта излюбленная песня в хорошо знакомом исполнении всегда пользуется успехом у слушателей и, подобно книгам всеми признанных авторов, не нуждающихся в газетной рекламе, не требует никаких похвал.
– А теперь, мистер Пурграс, вашу песню! – сказал Когген.
– Боюсь, я захмелел… да и нет у меня таких талантов, – стараясь остаться незамеченным, отнекивался Джозеф.
– Глупости! Ну можно ли быть таким неблагодарным? Вот уж никогда бы о вас не подумал, – укоризненно вскричал Когген, прикидываясь, что он оскорблен в своих лучших чувствах. – А хозяйка-то как глядит на вас, будто хочет сказать: «Спойте сейчас же, Джозеф Пурграс!».
– И верно, глядит; похоже, теперь не отделаешься. А ну-ка, гляньте на меня, люди добрые, никак меня опять в краску вогнало?
– Ничего, Джозеф, краснота ваша в самый раз, – успокоил его Когген.
– Уж как я всегда стараюсь не краснеть под взглядом красоток, – конфузливо признался Джозеф, – но так уж оно само собой получается, ничего не поделаешь.
– Ну, Джозеф, спойте нам, пожалуйста, вашу песню, – раздался из окна голос Батшебы.
– Да, право же, мэм, – сказал Джозеф, явно сдаваясь, – уж не знаю, что и сказать. У меня только и есть одна простая баллада собственного сочинения.
– Просим, просим! – закричали хором за столом.
Осмелев от всеобщего поощрения, Пурграс запел срывающимся голосом какую-то чувствительную песню про пламенную и вместе с тем высокодобродетельную любовь – мотив ее сводился к двум нотам, и певец особенно налегал на вторую. Пение имело такой успех, что Джозеф, не переводя духа, перешел ко второму куплету, но, споткнувшись на первой же ноте, несколько раз начинал снова первую строфу.
Я сеее-ял,
Я сс-еял лю…
Я се-еял любви семена.
Когда наступала весна,
В апреле и в мае, в июньские дни,
Когда пта-ашки пели пе-е-сни свои.
– Здорово закручено, – сказал Когген посла второго куплета, – и как ладно звучит «пе-е-сни свои». И еще вот это место про «семена любви» – такую руладу закатил, а ведь про любовь петь тоже надо уметь, надтреснутой глоткой не вытянешь. А ну, следующий куплет, мистер Пурграс!
Но во время исполнения следующего куплета с юным Бобом Коггеном приключился конфуз, обычная история с подростками – всегда с ними что-нибудь случается, когда взрослые настроены особенно торжественно: он изо всех сил старался удержаться от хохота и с этой целью запихал себе в рот угол столовой скатерти, но это помогло не надолго, смех, заткнутый герметически со стороны рта, вырвался носом. Джозеф, весь вспыхнув от негодования, сразу оборвал пение. Когген тут же оттаскал Боба за уши.
– Продолжайте, Джозеф, продолжайте, не обращайте внимания на сорванца. Такая замечательная баллада, а ну-ка следующий куплет. Я вам буду подтягивать в дишкантовых нотах, ежели вы от натуги выдохнетесь.
Ах, ива зеленая ветвями сплелась,
Ива кудрявой листвой завилась…
Но певца так и не удалось уговорить. Боба Коггена за плохое поведение отправили домой, и за столом снова воцарились мир и благодушие с помощью Джекоба Смолбери, который затянул одну из бесконечных, изобилующих подробностями баллад, какими при подобных обстоятельствах достославный пьяница Силен услаждал слух юных пастухов Хромиса, Мназила и прочих повес того времени [20].
Вечер еще сиял огненно-золотым светом, но сумрак уже стелился украдкой по земле; закатные лучи, едва касаясь поверхности земли, не протягивались по ней и не освещали уснувших равнин. Словно в последний раз собравшись с силами перед смертью, солнце выползло из-за дерева и начало опускаться. Сгущающаяся мгла окутала сидящих за столом снизу до пояса, а их головы и плечи все еще нежились в дневном свете, залитые ровным золотым сиянием, которое, казалось, не поступало извне, а источалось из них самих.
Солнце скрылось в охряной пелене, а они сидели, беседовали и пировали, словно Гомеровы боги. Батшеба по-прежнему восседала во главе стола у окна, в руках у нее было вязанье, от которого она время от времени отрывалась и поглядывала в меркнущую даль. Медленно подкрадывающийся сумрак разливался все шире и, наконец, поглотил и сидящих за столом, а они все еще не собирались расходиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу