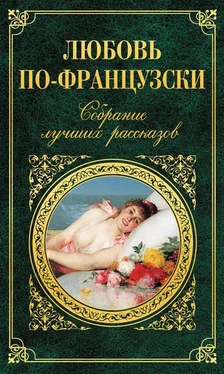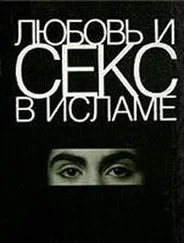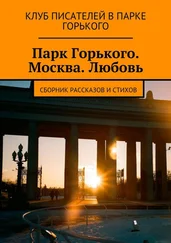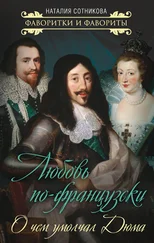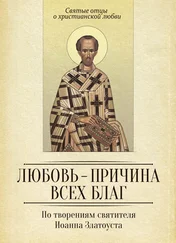Вероятно, в моих словах, когда на следующий день я разговаривал с отцом о намерении начать совсем новую жизнь, было так много убедительной силы, что он тут же, в награду за мою жертву, подарил мне всю свою библиотеку вместе с изящным павильоном, который она занимала. То были две вещи, любимые им больше всего на свете после меня. День я провел, расставляя все то, что могло бы мне понадобиться в моих занятиях или же украсить мое добровольное изгнание, и по тому глубокому чувству удовлетворения, которое доставили мне эти отрадные заботы, я понял, что счастье многолико. Да что я говорю! Чистое счастье души, довольной собой, всегда одерживает верх над счастьем воображаемым как по своей длительности, так и по своей сущности. Я был счастлив до самого вечера; никогда раньше я не бывал счастлив так долго.
Вечером я начал зевать; за десять минут я двадцать раз взглянул на часы: меня преследовали первые звуки оркестра; в моих ушах раздавался почти столь же нестройный стук открывающихся и захлопывающихся дверей, и я тщетно старался различить в воздухе – увы! – слишком чистом, тот чуть затхлый аромат, в котором смешивается запах коптящих ламп с испарениями духов. Я искал прелестный взгляд Маргариты и на потолке, и на карнизах, я искал его по всем полкам и столикам библиотеки, но мои глаза наталкивались только на Якобуса Куйациуса, изданного Аннибалом Фаброти.
– Хотелось бы мне знать, – воскликнул я наконец, – предназначались ее взгляды ему или мне? А поскольку сегодня утром он взял себе место в почтовой карете, стало быть, сейчас он должен быть в отъезде. Никогда мне не представится лучший случай развеять мои сомнения, и каков бы ни был исход, это только укрепит меня в моем благом намерении. Завтра потружусь!
На этот раз я не мог обмануться, и я заявляю вам это со всем самодовольством, которое может внушить глупцу неожиданная удача в любви: ее взгляды предназначались лишь мне, мне одному! Вы скажете, что ведь я был тогда один и являлся для Маргариты лишь чем-то вроде болонского камня; и подобно тому, как этот чудесный минерал, чьи поры, влюбленные в свет, долгое время после захода солнца выделяют бледное сияние; так и от меня должны были исходить флюиды Амандуса. Это не пришло мне в голову, а кроме того, если я только разбираюсь в подобных вещах, – да и есть ли на свете мужчина, который думает, что он в них не разбирается? – то в этом небесном личике, таком умном и выразительном, угадывалась мысль, которая могла относиться только ко мне и только от меня ожидала ответной мысли. Я попытался разгадать ее; поняв – я содрогнулся, героически призвал на помощь храбрость и в конце концов бежал, унося в груди смертельную тоску; и все от того, что я возомнил себя счастливым!
Нет, Маргарита, о нет! Я не вторгнусь в святыню твоей невинной души для того, чтобы зажечь и поддерживать в ней пламя страсти, которая погубит нас обоих! Нет, я не перенесу в бесплодную пустыню моей жизни твой нежный и свежий стебелек с его душистыми цветами! А в то же время кто, кроме меня, сможет тебя любить так, как ты того заслуживаешь! Я стал бы алтарем твоих ног, арфой, звучащей от твоих вздохов, сосудом, бережно хранящим твой аромат! Я бы стлался перед тобой волнами фимиама! И, подобно капле росы, испаряющейся от полуденного зноя, я сгорал бы в огне твоих лучей! О, никогда я не посмел бы руками мужчины развязать пояс твоего девственного платья! Раньше, чем приблизиться к тебе, я прошел бы через всеочищающее пламя клокочущего вулкана, и мои губы прикоснулись бы к твоей груди только через покров, из боязни осквернить ее!.. Но ты богата, Маргарита, и ничто не в силах полностью лишить тебя всех ненужных благ и сделать тебя равной мне по состоянию! И даже тогда ты оставалась бы слишком недосягаемой, была бы достойна одних только королей!.. Нет, Маргарита, я вас больше не увижу никогда… Разве только в том случае, если вмешается сам дьявол.
Заканчивая эту поэтическую тираду, тривиальный конец которой немного портит начало, я в полном изнеможении рухнул в кресло, которое, к счастью, было мягким, покойным и на пружинах. Дина поставила на письменный стол три зажженных свечи, роскошь, к которой я не привык в своих ночных бдениях, и это еще раз явилось доказательством того, что мои родители были мною довольны. А затем она оставила меня в моем прилежном одиночестве.
Я вышел ненадолго на балкон и облокотился на перила. Небо было прозрачно, как озеро, усыпано звездами, как луг цветами. В ветвях молодых деревьев моего сада чуть слышно было дуновение ветерка, и, казалось, он пробегал по ним, играя, лишь для того, чтобы принести оттуда сладостный аромат. Вдали щелкал соловей, ночные бабочки с легким шорохом порхали под листьями. Была чудесная ночь, созданная для любви, иной, чем та, которую я до сих пор знал, ночь, подобная дивному эмпирею, по бесчисленным сферам которого мне хотелось тогда промчаться с быстротой огней, пересекающих его во всех направлениях, но глубины его были недоступны как моей душе, так и моим глазам. Я затворил все окна, чтобы не отвлекаться этими необъятными красотами, и уселся с твердым намерением приняться за работу, окинув последний раз удовлетворенным взором мой кабинет, где царил столь безупречный порядок. Описание его в такой же степени здесь необходимо, как и карта Лациума для «Энеиды» Вергилия.
Читать дальше