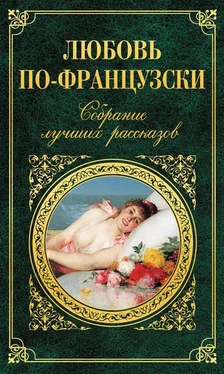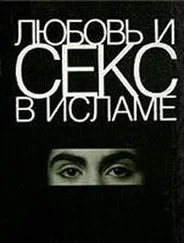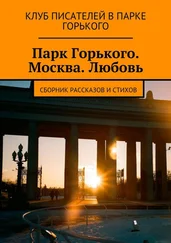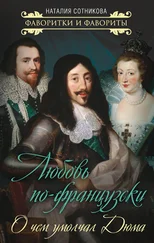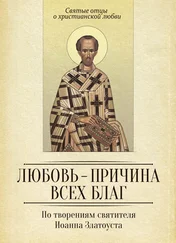Лицо Монтина все время стояло у меня перед глазами. Я представлял себе, как этот высокий красавец с блестящей шевелюрой глядит на нее с улыбкой, и твердил про себя: это он.
Я даже придумал историю их связи. Они вместе прочли какой-нибудь роман; вместе обсуждали любовные приключения, нашли в героях какое-то сходство с собой и доказали эту аналогию на деле.
Я стал следить за ними, сделавшись жертвой самой отвратительной пытки, которую только в силах вынести человек. Я купил себе обувь на резиновой подошве, чтобы бесшумно красться по дому, и жизнь моя проходила в том, что я бегал вверх и вниз по винтовой лестнице, думая застать их врасплох. Иногда я даже спускался по ступенькам на руках – головой вниз, стараясь подсмотреть, что они делают. Потом, удостоверившись, что с ними был приказчик, я с трудом, с невероятными усилиями, пятясь, подымался наверх.
Это была не жизнь, а мука. Я не мог ни о чем думать, ни работать, ни заниматься делами. Стоило мне только пройти по улице шагов сто, я уже говорил себе: он там, и возвращался домой. Его там не было, я уходил снова. Но не успевал отойти от дома, как мысль: теперь он пришел – заставляла меня вернуться.
Это продолжалось изо дня в день. Ночью было еще страшнее, потому что я ощущал ее присутствие тут, рядом, на кровати. Спала она или только притворялась спящей? Действительно ли она спала? Разумеется, нет. И это было ложью.
Я неподвижно лежал на спине, и меня, задыхающегося, истерзанного, просто жгла теплота ее тела. О, какое я испытывал гнусное и непреодолимое желание встать, подойти к ней с молотком и свечой, одним ударом раскроить ей череп, заглянуть внутрь его. Я знал, что, кроме каши из мозга и крови, ничего не нашел бы там. Я не узнал бы ничего: узнать невозможно! А ее глаза! Стоило ей на меня взглянуть, как меня охватывало бешенство. Посмотришь на нее – она, в свою очередь, поглядит на тебя, ее глаза прозрачны, ясны и лживы, лживы, лживы! И никогда не угадаешь, какие мысли таятся за ними. Как хотелось мне вонзить в них иглу, проткнуть эти зеркала-обманщики!
О, как я понимаю инквизицию! Я скрутил бы ей кисти в железных наручниках: «Говори… Сознайся! Не хочешь? Погоди же!..» Я медленно стал бы сжимать ее горло: «Говори, сознайся… Не хочешь?..» И я сжимал бы, сжимал бы до тех пор, пока она не начала бы хрипеть, задыхаться, умирать. Как я стал бы жечь на огне ее пальцы. О, с каким наслаждением я бы это делал!.. «Да говори же, говори!.. Не хочешь?» Я держал бы их на раскаленных углях, пока концы не обуглятся… Тогда она бы у меня заговорила, небось заговорила бы!
Тремулен стоял передо мной, сжав кулаки, и кричал. А тени на соседних крышах вставали, просыпались, прислушивались, потревоженные в своем покое.
А я, взволнованный, охваченный глубоким сочувствием, так ясно видел перед собою во мраке маленькую женщину, как будто давно знал это светловолосое, хитрое, изворотливое существо. Я видел, как она продавала книги, как разговаривала с мужчинами, возбужденными ее детской наружностью, и я видел в ее хорошенькой, кукольной головке коварные мыслишки и безумные, высокопарные мысли, мечты надушенных мускусом модисток, влюбляющихся во всех героев приключенческих романов. Я, так же как и он, выслеживал ее, она внушала мне омерзение, ненависть, я сам готов был жечь ее пальцы, чтобы она созналась.
А он продолжал уже более спокойным тоном:
– Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Я никогда ни с кем об этом не говорил. Правда, я и не видел никого в течение последних двух лет. И ни с кем не говорил ни о чем. Но в сердце моем накипело, словно это забродил образовавшийся там грязный осадок. Теперь я выложил все, что было у меня на душе, – тем хуже для тебя.
Так вот! Я ошибся. Это было не то, что я думал, но гораздо страшнее всего, что могло быть. Я применил способ, к которому обычно прибегают в таких случаях, – сделал вид, что уезжаю по делу. В мое отсутствие жена всегда завтракала вне дома. Не стану тебе рассказывать, как я подкупил официанта, чтобы застать ее на месте преступления.
Условились, что он откроет дверь их кабинета, и в назначенный час я явился с твердым решением убить их.
Накануне я нарисовал себе эту сцену так живо, как будто все уже свершилось. Вхожу! От Монтина ее отделяет столик, уставленный бутылками, бокалами, приборами. Они так поражены при виде меня, что застывают на месте. Я, не говоря ни слова, наношу мужчине удар свинцовым набалдашником палки, которой вооружился заранее. Сразу же испустив дух, он падает головой на стол. Потом я оборачиваюсь к ней, медлю несколько секунд, пока она, все поняв, в предсмертном ужасе ломает руки. О, я был ко всему готов, силен, непоколебим, чувствовал радость, пьянящую радость. Я представлял себе ее отчаянный взгляд при виде занесенной над ней палки, протянутые руки, вопль, вырывающийся из ее груди, мертвенно бледное, искаженное лицо и заранее считал себя отомщенным. Нет, ее я не убью с первого раза!.. Я кажусь тебе кровожадным, не правда ли? Но ты не знаешь этой муки: думать, что любимая женщина – твоя жена или любовница – отдается другому, принадлежит ему так же, как и тебе, целует его губы, как целует твои! Какое это страшное, омерзительное чувство. Тот, кто однажды перенес эту пытку, способен на все. О! меня удивляет, что так мало убийств на этой почве. Ведь каждый, кто пережил измену, жаждет стать убийцей, радуется желанной смерти. Оставшись дома один или очутившись на пустынной улице, он в предвкушении удовлетворенной мести заранее делает руками то движение, которым задушит или нанесет смертельный удар.
Читать дальше