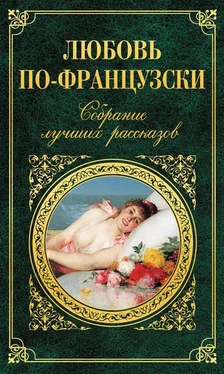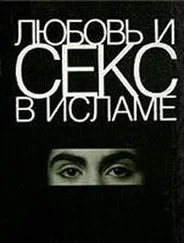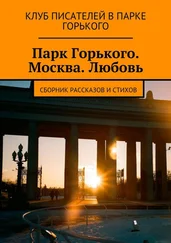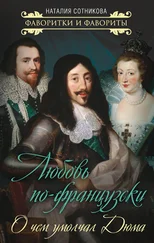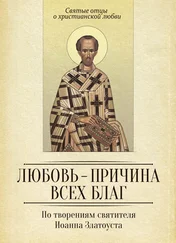«Действительно, – подумал Дарси, – я был бы очень глуп, если бы последовал совету Тиррела и купил греческую невольницу, с тем чтобы везти ее в Париж. Черта с два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как говаривал друг мой Халеб-эфенди. Слава богу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому, строгость нравов не доведена до крайности… Бедняга Шаверни!.. Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я был достаточно богат, я бы женился на Жюли, и, может быть, сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шаверни. Если я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, которые ее вытаскивали бы из канавы… Ну что ж, подведем итог. В конце концов она очень красивая женщина, неглупа, и, будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать все случившееся моим исключительным достоинствам! Да, мои исключительные достоинства! Увы, увы, через месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне достоинств этого господина с усиками… Черт! Хотелось бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, писать и вести разговор с порядочными людьми… Кажется, это единственная женщина, которая меня любила… Бедное дитя!..»
Трубка его погасла, и он скоро заснул.
Войдя в свои комнаты, г-жа де Шаверни сделала над собою невероятное усилие, чтобы обычным тоном сказать горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что она хочет остаться одна. Как только девушка вышла, она бросилась на постель (ибо для выражения горя удобная позиция столь же необходима, как и для выражения радости) и теперь в одиночестве разразилась слезами, еще более горькими, чем в присутствии Дарси, когда ей нужно было сдерживаться.
Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние на наши душевные горести, как и на физические страдания. Она всему придает зловещую окраску, и образы, которые днем были бы безразличными или даже радостными, ночью нас беспокоят и мучат, как призраки, появляющиеся только во мраке. Кажется, что ночью мысль усиленно работает, но рассудок теряет свою власть. Какая-то внутренняя фантасмагория смущает нас и ужасает, и у нас нет сил ни отвратить причину наших страхов, ни хладнокровно исследовать их основательность.
Представьте себе бедную Жюли простертой на постели, полуодетой: она мечется, то пожираемая жгучим жаром, то холодея от пронизывающей дрожи, вздрагивает при каждом треске мебели и отчетливо слышит биение своего сердца. От всего происшедшего у нее сохранилась только смутная тоска, причины которой она тщетно доискивалась. Потом вдруг воспоминание об этом роковом вечере проносилось у нее в голове с быстротою молнии, и вместе с ним пробуждалась острая, нестерпимая боль, словно ее затянувшейся раны коснулись каленым железом.
То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблюдая за каждым колебанием огонька, пока слезы, навертывавшиеся неизвестно почему на глаза, не застилали зрения.
«Почему я плачу? – думала она. – Ах да, я опозорена!»
То она считала кисти на пологе и все не могла запомнить, сколько их. «Что за бред! – думала она. – Бред! Да, потому что час тому назад я отдалась, как жалкая куртизанка, человеку, которого не знаю».
Потом бессмысленным взором она следила за стрелкою стенных часов, как осужденный, наблюдающий приближение часа своей казни. Вдруг часы пробили.
– Три часа тому назад, – сказала она, внезапно вздрогнув, – я была в его объятиях, и я опозорена!
Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспокойстве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний воздух, свежий и колючий, принес ей некоторое облегчение. Опершись на подоконник окна, выходившего в сад, она жадно, с каким-то вожделением вдыхала полной грудью холодный воздух. Беспорядок в мыслях мало-помалу рассеялся. На смену неопределенным мучениям, обуревавшему ее бреду пришло сосредоточенное отчаяние – это был уже некоторый отдых.
Нужно было принять какое-нибудь решение. Она стала придумывать, что ей делать. Она ни минуты не останавливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей казалось это невозможным: она бы умерла от стыда, увидя его. Она должна покинуть Париж: здесь через два дня все будут на нее показывать пальцами. Мать ее находилась в Ницце. Она поедет к ней, во всем ей признается; потом, выплакав свое горе на ее груди, она поищет в Италии уединенное место, неизвестное путешественникам, будет там одиноко жить и скоро умрет.
Читать дальше