Зубья с мягким хрустом входили в их общее, спрессованное тело и выгребали пласт, остро пахнущий прелью.
Я торопилась неизвестно куда. И все поглядывала на небо. Там густела темнота, растворяя в себе путаницу ветвей…
День кончался у меня на глазах. Таяли его последние минуты. Он обманул меня, этот день, недодал обещанное, хорошее. И теперь судорожной работой я пыталась остановить его и удерживать здесь, в саду, пока он не выполнит обещания.
День кончился.
Вздрагивая от озноба, я подожгла собранную кучу. Принесла от печки экономно горящий бумажный жгут и сунула в листья.
Огонек слизнул верхние и погас. Нет, ушел внутрь, в глубину. Я пошевелила его там — он огрызнулся, выдохнул едкую струйку. Палочкой я стала щекотать огню пятки. Но он подобрал ноги и выпустил мне в лицо целый клуб дыма. Я задохнулась, закашлялась. И разворошила в отместку его хитрую нору. Тут уж огонь выскочил, красный, разъяренный. Забегал по листьям, замахал всеми своими кулачками.
Я засмеялась. В ответ прыснуло эхо — совершенно на Танькин манер. Я быстро оглянулась. Сзади крались, хоронясь за сливой, две скрюченные фигуры.
— Вылезайте, все равно уже заметила.
Танька с Вовкой подошли, подсели к костру.
— Дыму от твоих листьев полный сад, — сообщила Танька.
— Мы ж пожар тушить бежали.
— Поздно прибежали, без вас управилась.
Я не смотрела на Вовку: была занята — клала в огонь по листику и следила, как он их ест. Он ел лист не сразу, сначала пробовал на язык. От этого по листу ползли черные подпалины, и он свертывался от боли, прикрываясь краями. И тут же вспыхивал коротким костерком.
— Да хватит тебе переживать! — не выдержала Танька. — Марь Ефимна целый день спрашивает, почему тебя нет. «Неужели, говорит, на меня обиделась?»
— В жизни воровкой не была, а тут… Думает, если взрослая, то и наговаривать может?
— Да ладно тебе. Это она под горячую руку. Никто про тебя так не думает. А она правда беспокоится.
— Беспокоилась бы раньше, когда мое имя марала.
— Тю, разве мать его замарала? Сама вляпалась.
— А ты помолчи. Не с тобой говорят. Продал Маню — и молчи!
— Чего это я ее продал? Шо гадость ее на себя не принял? И никогда того не сделаю, пусть знает.
— Нет, главное, спряталась за Линку — и молчок. И это считается дружба. — Танька кокетливо повела перламутровыми глазищами.
— Так дурачков и учат. Правильно мать тебе сказала, надо бы крепче, да слов для того культурных нема.
— А ты некультурными давай. Послушаем.
— Это уж ты Маньку проси, если шибко интересуешься.
— И попрошу, не запретишь!
— Да ладно вам цапаться, — вскричала Танька. — Еще разругаетесь, мири вас потом.
Замолчали. Танька вытянула из костра прутик с тлеющим концом и стала раздувать уголек. Глаза у нее сделались длинные, и в каждом зажглась звездочка.
Красивые глаза. Я ревниво оглянулась на Вовку.
А он смотрел на меня. Маленький, твердый рот его был сжат, а глаза смотрели ласково, покорно.
Теплая, качающая волна хлынула в меня и разом смыла всю беспокойную суету внутри, и напряжение, и обиду — все, чем был выше головы полон мой день. Стало вдруг легко-легко.
Я выхватила у Таньки прутик и очертила им в воздухе | огненный круг. Изобразила ему глаза и мигом приделала два широченных уха.
Танька захохотала, тыча в Вовку пальцем, а он кинулся отбирать у меня прутик.
И тут я вспомнила про полынь и побежала в потемках к грядкам, как слепой по знакомой дороге. Нашарила срубленный куст, второй, нахватала охапку. Полынные дудки с крепкими краями и ватной сердцевиной были как раз то, что нужно.
Скоро мы носились во тьме летучими мышами и разрисовывали ее, как хотели.
Можно было, например, крутить круги. Наделать широких, во весь замах, и поуже, в половину руки, и совсем маленьких (если двигать кистью) и, как тарелками в цирке, жонглировать их тающими тенями. Можно было нестись с огненной лентой, пуская ее красивыми волнами. Или охотиться друг за другом и сбивать огненные грифели.
Танька стала писать первая. «Гитлер капут» — свободно прочитали мы в темноте. «В бой за Родину» — тотчас откликнулась я. Вовкина дудка погасла. Он побежал к костру.
Мы и не заметили, какой важный он вернулся. Его палка чертила двойной след! И этим красивым двойным шрифтом, огромными буквами, Вовка вдруг написал:
Л + В =
Дальше была темнота, немая, кромешная. И вдруг там пошли вспыхивать круги, забились упругие, частые волны, зачиркали скорые линии. Все это радостно металось в темноте, путалось и перечеркивало друг друга и рисовало диковинный узор.
Читать дальше
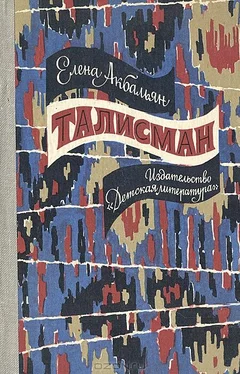





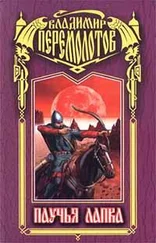

![Валентин Бабакин - Талисман для героя [СИ, самый полный вариант]](/books/410469/valentin-babakin-talisman-dlya-geroya-si-samyj-pol-thumb.webp)

