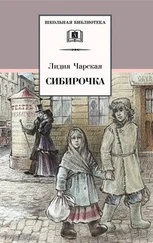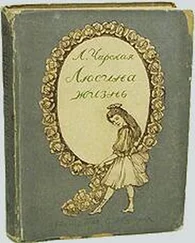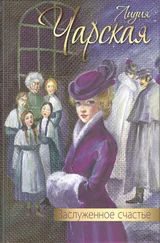– Нет! Нет! Ни за что нельзя этого! Помилуй меня, Боже.
– Почему нельзя? – высокие, словно кисточкой туши выведенные брови Елены еще выше поднялись на лбу.
– Ах ты, Боже мой, – невозмутимо, без улыбки, отвечал Ярменко, – да разве ж вы не знаете, каков я? Апельсин возьму – вазу разобью. За пальто полезу – вешалку сломаю. Чай примусь пить – стакан расколочу… Такая уж у меня доля, как моя покойница нянька-хохлушка говорила. Только умею петь да лечить. Ей-Богу!
Сестры смеялись. Доктора тоже.
– Дмитрий Иванович, шоколаду, – подлетела к нему Розочка с новой чашкой.
– Ой-ой-ой, избавьте, сестрица… И так нашоколадился. Ей-Богу!.. Восьмую чашку, што ли?
– А вы еще! Ради рождения моего!
– Ну, вот разве что ради рождения. Давайте, куда ни шло, – и огромная рука Ярменко протянулась за чашкой.
И в тот же миг дружный взрыв хохота огласил комнату.
Чашка лежала разбитая вдребезги на полу, шоколад вылился, образуя липкую коричневую жижицу, а доктор Ярменко стоял с растерянным видом над чашкой и лужицей и говорил, смущенно разводя руками:
– Ну, разве ж я не говорил вам?.. Такая уж моя доля!.. А, штоб тебя, и то разбилась, экая глупая чашка!.. Глупая и есть!
– А вы, сестрица Розанова, говорят, обладаете удивительным даром подражать? – с лукавой усмешкой обратился Семочка к Кате.
Сестры засмеялись.
– Правда, Евгений Владимирович, правда. Она всех сумеет изобразить в лучшем виде.
– Да неужели?
– Честное слово, правда! Хоть кого. Да так ловко – прелесть!
– И меня, пожалуй, сестра Розанова, изобразите? – поглаживая свои франтоватые усики, усмехнулся Семенов.
– Вас? – Катя лукаво прищурилась, потом задорно вскинула головку и, глядя в лицо Семочке смеющимися глазами, заговорила:
– Нет, Евгений Владимирович, уж увольте. Мне вас не представить никак. У вас нет ни одной такой черты, которую бы я могла подметить, – и, говоря это, она высоко подняла голову, втянула ее в плечи и, пощипывая пальцами повыше верхней губы, крупными шагами заходила по комнате.
Перед присутствующими, как живая, выросла фигура Семочки, его манера говорить, самый тон его голоса, походка, выражение лица.
– Браво! Браво! Ха-ха-ха-ха! Вот молодец-то! То есть как две капли воды похоже! – вспыхнул вокруг шалуньи гомерический хохот.
– Уморила! До смерти уморила! Фу! – заливался смехом Козлов. – Сестрицы, если умру от смеха, чур, на свой счет хороните.
Впрочем, не один Валентин Петрович «умирал» от смеха: и сестры, Фик-Фок, «семинарист» и даже суровый Аврельский – все они покатывались со смеху над проделками шалуньи.
От души хохотал и сам Семочка.
Едва успел утихнуть взрыв смеха, сопровождавший проделку Розочки, как с места поднялся немец и, любезно склонившись перед Катей в старинном рыцарски-вежливом поклоне, попросил ее своим изысканно любезным голосом:
– Если, мейн фрейлейн, будет угодно… то, пожалуйста, и меня представляйт, как на театре… Я не обижайт ни за что…
– Если, мейн фрейлейн, будет угодно, то, пожалуйста, представляйт, как на театре и меня, – неподражаемо копируя его поклон, манеру и изысканно вежливую речь, повторила Катя.
Новый взрыв смеха покрыл и эту шутку.
Еще не успели все опомниться, как лицо Кати все съежилось, все свелось в морщинки, губы отвисли, брови сжались, и она, заложив руки за спиной, забегала по комнате мелкими шажками, фыркая, сплевывая в сторону и резким голосом закричала:
– Это не порядки, тьфу! Тут ска́чки, сапожный магазин, тьфу, кузница… тьфу, или цирк, я не знаю. Но только не больница… Почему не пахнет карболкой?.. Сколько раз просил душить карболкой! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Сестры фыркали и давились от смеха, сразу поняв, кого изображает эта юркая, подвижная и лукавая сестра-девочка.
Смеялись и доктора, косясь в угол дивана.
– Батюшки! Да ведь это я! Сам, собственной своей персоной! – не выдержал и расхохотался старый доктор Аврельский.
И странно было видеть трясущимся от смеха это обычно желчное, суровое, всем всегда недовольное существо.
Последняя препона сдержанности рухнула с этим смехом. Теперь сестры почувствовали себя совершенно равными докторам, а доктора, забыв свое привилегированное положение, – сестрам.
– А правда ли, сестрицы, что вы меня «старым козлом» величаете? – неожиданно выпалил доктор Козлов, добродушно-лукаво подмигивая направо и налево.
– Правда, Валентин Петрович, нечего греха таить, – с глубоким вздохом отозвалась «новорожденная».
– А меня «семинаристом», что ли? Как видите, знаю и сие, – пробасил к общему удовольствию Ярменко.
Читать дальше