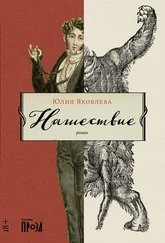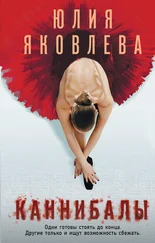Он больше не кривлялся, не притворялся. Он был страшно зол, видела Таня.
– Даже у самой глубокой чаши есть края. И она наполнилась! Часы перевернулись! И все слезки – они теперь капают обратно на ваши головы! Понятно? Вам! Пора! Платить!..
От его слов Таня подскакивала и вздрагивала, будто жаркая меховая полость вдруг перестала греть.
– …За каждую! Слезу!
Сани летели вдоль набережной. Над ней занимался розовато-золотистый дымок. В другое время Таня бы залюбовалась.
– …Кап-кап! Кап-кап! – каркал возница.
И Таня увидела, что на доску капает. Кап-кап. Кап-кап. Только вода была теперь красной. И все капало, капало красным. Капли подскакивали и падали Тане на кофту, на колени, на лицо. Она закрыла лицо руками.
– Съешь ладью. Проиграешь ведь, – почти сочувственно сказал серый.
– Сперва ответьте.
– Сперва съешь.
– А вы, значит, честный? – в Тане тоже поднялась злость.
– Я-то?
– Справедливый? Да?
Он сделал вид, что не замечает ее тона. Задумался.
– Пожалуй, да, – серьезно ответил он.
– Да вы злодей похуже прочих!
– А я-то тут при чем? – он искренне удивился. – Часы поставил не я.
Таня пристально посмотрела на него, на обвисшие поля шляпы, на потрепанную серую одежду. Вспомнила крестики, которые он ставил в городе.
– Вы ведь смерть? Зачем отрицаете? – снова спросила она. Но не получила ответа.
Таня свесила голову.
– Что же мне делать?
Ее слезы падали на доску.
Человек в сером смягчился.
– Слыхала такое выражение – испить до дна чашу горестей? А? Слыхала?
Таня шмыгнула носом. Кивнула.
– Ну так пей! – Он обернулся, бережно снял с часов верхнюю чашу, где еще плескалось на дне, сунул ей под нос: – Пей!
«Он обманщик, – сказал голос у Тани в голове. – Пить здесь тоже ничего нельзя».
– До дна! – прикрикнул серый. – И тогда часы снова перевернутся. И, может, они успеют перевернуться до того, как Шурка и Бобка… э-э-э… пострадают.
Таня вскинула на него глаза.
– Но повторяю: я не смерть. И ничего тебе не обещаю.
– А много там еще? В этой чаше? – спросила Таня.
– Не хочешь – как хочешь. Вылезай из саней. Тпру!..
Таня вскочила, выхватила у него из рук чашу, бережно поднесла ко рту и залпом выпила. Поставила на часы пустую.
Ничего не произошло.
Потом скрипнуло. Нижняя – полная – чаша дрогнула. И тотчас часы начали медленный кувырок. Чаши менялись местами. Теперь полная до краев взмывала вверх, пустая шла назад. Пришла. Первая капля упала в нее.
И на всех часах, которые только были на другой стороне, тотчас двинулись стрелки. Время снова пошло, полетело вперед. Улицы и площади сжимались до нормального размера. Сужались реки – снова становились каналами. Разбегались по домам игрушки. Гарцевали стулья, столы, диваны, кровати. Махали крыльями-страницами книги – целые стаи книг. Вскакивали обратно на свои постаменты сфинксы, львы, всадники. Бежали, придерживая каменные покрывала, мраморные красавицы – и тоже карабкались на свои пьедесталы, задирая полные, неспортивные ноги. Моря снова стали прудами в парках. Дома обрели человеческую мерку. Черный ангел с крестом приземлился обратно на высокую мраморную колонну, сложил острые крылья и повернул лицо туда, куда смотрел последние сто с лишним лет. Страшная темная река, по которой плыли мечи, копья, ножи, река, которая была границей Туонелы, снова стала Невой, дала льду себя сковать. И площадь с фарфоровыми деревцами, громадной чернильницей собора и вмерзшим трамваем расстелилась за миг до того, как на нее, взорвав сугроб, плюхнулись санки с Шуркой и Бобкой. И тети-Верины часики снова пошли.
Часы во всем городе стучали. Со стуком перемахивали с деления на деление стрелки. Всё прыгали, всё бежали – нагоняли. И в конце концов их ход обрел обычную плавность. Они уже спокойно и равномерно перескакивали с одной черной палочки на другую.
Санки со всего маху врылись носом в сугроб.
Шурка выдирался наружу ногами и рукой, а другой тащил Бобку. Раскидал снег. Выполз. От него валил пар.
Бобка не ощущал мороза. Он только понимал, что вокруг не просто холодно, а страшно холодно. Огромные ледяные мечи свисали с крыш.
Но это были крыши! Знакомая твердая линия крыш. Без всяких там штучек.
Солнце ласково золотило студеные дома.
Из-за толстой корки инея, искрящейся на солнце, мертвый трамвай казался елочной игрушкой.
Бобка почувствовал, как что-то маленькое и твердое холодит руку. Он посмотрел на запястье и поразился: две толстенькие стрелки были неподвижны, а третья, тоненькая, живо бежала по кругу, словно проверяя, все ли деления на месте. Часы снова шли!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
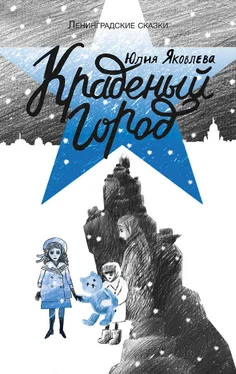



![Юлия Яковлева - Волчье небо. 1944 год [litres]](/books/394779/yuliya-yakovleva-volche-nebo-1944-god-litres-thumb.webp)
![Юлия Яковлева - Каннибалы [litres]](/books/396952/yuliya-yakovleva-kannibaly-litres-thumb.webp)