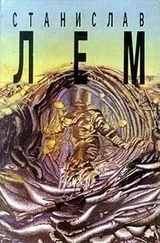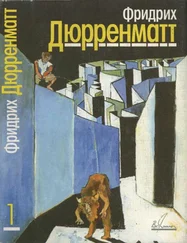– Дайте вспомнить…
– Берите, берите свою голову в руки…
– Хватит вам, хватит…
Умываюсь, как больной. Он сзади торчит, не умолкает:
– Долго возитесь, ваша светлость, в армии еще не были?
– В какой армии?
– …Дома не осталось ничего, все подчистую, ни капли не найти…
– Чего вам не найти?
– Мойтесь, мойтесь… Выпить больше нечего, придется на базар отправляться.
Вываливаюсь, пошатываясь, из ванной, еле передвигаю ноги, дурной совершенно, какое там выпить! Не срабатывает голова, чушь какую-то отвечаю, даже невпопад, – тьфу, гадость, зачем все, зачем… Не пойму…
Чувствую на себе его взгляд все время.
– Деньги давайте, – говорю, – сколько там с меня… с вас…
– С тебя, с тебя! – смеется. – Выйдем на базар, опохмелимся, вернемся, заберешь свою монету. Как же я могу сейчас считать, ты в своем уме? Баланс не подведен, общая сумма неизвестна. Деньги счет любят, а в таком чувстве и передать недолго…
– Не, не, – мотаю головой, – не, не…
– Чего – не?
Мотаю головой и смотрю тупо на одеяло, на две выжженные дырки, наверное от папиросы. Над тахтой фотография его жены. Сикстинская Мадонна выглядела настолько красивой, что даже в разбитом состоянии я это понимал и не мог оторваться. Значит, я в спальне Сикстинской Мадонны, я спал на ее кровати, в ее комнате, она спала здесь раньше, а теперь я… Представил себе, как она задумчиво лежит и курит, глядя в потолок, и прожигает одеяло… Деньги вылетели у меня из головы моментально. Она заняла всего меня…
– Сейчас, пойдем, – сказал Штора, – и вернемся.
– Пойдемте, – сказал я, очень довольный, – и вернемся.
– Может быть, там и рассчитаемся, – сказал он, – и не будем возвращаться? Ты со мной на маевку не поедешь? Реализовали бы остаток, а?
– Нет, на маевку я с вами не поеду, – сказал я.
– А почему?
– Может быть, все-таки сначала рассчитаемся?
– Если я сию минуту не тяпну стаканчик, – заторопился он, – вместо меня будет труп. Да и тебе не мешало бы, башка пройдет, съедим хашца… – Он подталкивал меня к двери.
Уже на площадке я вдруг метнулся обратно, вбежал в комнату, просунул руку под ковер, вытащил пистолет и сунул в карман.
Он окликнул меня.
– Хашца – это что? – спросил я, возвращаясь.
– Пойдем, пойдем, – сказал он, – что ты там?.. Мы вышли.
– Хаш – это суп, – сказал он, – ты не знал?
– Хашца, – сказал я, – это хорошо! – Хотя меньше всего мне хотелось есть.
– Зачем ты все-таки обратно побежал? – спросил он.
– Взглянуть на Сикстинскую Мадонну еще раз, – сказал я. – Если вы хотите, я вам большой портрет с фотокарточки нарисую. Знаете, масляной краской на бумаге? Сухой кистью и тампонами, как в витрине художественной мастерской.
Он недоверчиво взглянул на меня:
– Ты, случайно, карточку не стибрил?
– Да что вы! – говорю. – Вернемся, проверите. Я ее по памяти могу нарисовать, если хотите знать.
Не вздумал бы меня обыскивать! Голова у меня заболела еще сильнее, наверное от волнения. С удовольствием понес бы ее под мышкой, по его совету, если было бы возможно.
– Я вам обязательно портрет сделаю.
– Сделай, сделай…
– С удовольствием, – сказал я, ощупывая в кармане пистолет.
– Следить за тобой все-таки надо, – сказал он, – мало ли что взбредет в твою коробку!
– Мне вроде вчера показалось, – говорю, – Вася стакан ел, это правда? Вы видели? Или мне показалось?
– А что ему! Два года во Дворце культуры в двух секциях занимался. Что ему стоит стакан сожрать! Он и утюг сожрет. Желудок у него луженый.
– Нет, правда, как же так, неужели он стакан съел?
Этот вопрос меня мучил. Похлеще цирка получается.
– Ну, ел, ел, ну и что?
– Весь стакан съел?
– Ну, не весь, кусочек. Зубы-то у него покрепче, чем у лошади. Что ты, ей-богу, дурачок, ко мне привязался?
– Ну и какой же кусок он съел?
– А какой тебе надо?
– Мне ничего не надо, просто интересно. А у меня получится?
– Получится, получится, дуракам закон не писан. Вот будешь в объединении при Дворце культуры заниматься в цирковой секции – получится.
– При чем здесь Дворец культуры?
– Все там гении, – сказал он зло, – феномены. Из-за твоего Васи я потерял оружие… Из-за этого поэта…
Я сейчас же опустил руку в карман, нащупывая вальтер. Лучше держать руку все время в кармане, как-то спокойней.
– Продерет поэт глаза с похмелья, – продолжал он, – побреется словно во сне, наденет чистенькую, выстиранную мамашей, единственную рубашечку, галстучек повяжет и готов к новой жизни, начинать по новой. Воротничок чистый – значит, человек. Как там у Чехова: в человеке должно быть все прекрасно! А раз чистый воротничок – значит, все прекрасно. Английский джентльмен, и никакого падения! Тогда одному кажется, что он в Академию художеств поступил, а другому – бог знает что… Денег у них нет. У меня подработали на несколько бутылок. Меня лично на эту фигню, ежедневное пьянство, не свернешь, палкой не загонишь, меня деятельность вдохновляет…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Голявкин Собрание сочинений. Арфа и бокс. Рассказы [сборник litres] обложка книги](/books/433337/viktor-golyavkin-sobranie-sochinenij-arfa-i-boks-r-cover.webp)