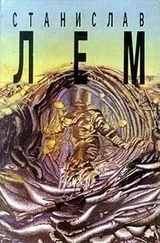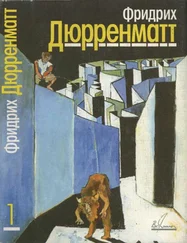– Через оперу, – сказал я.
– Как вы сказали? – спросил Рауф.
– Неважно, – сказал я.
– Сейчас мы будем делать просто, – сказал зло Рауф, набрасывая панораму города, – очень просто. А вы что, собственно, здесь делаете? – спросил он меня.
– Сушу штаны, – сказал я.
– Я сейчас делаю то же самое.
– Значит, мы с вами оба сушим штаны?
– Вот именно.
– Оригинальничает во всем, – сказал толстяк, – даже сейчас, заметьте, он не рисует, а сушит штаны. Не правда ли, занятно?
– Не ваше дело, – огрызнулся Рауф, – сушу штаны.
– Я тоже сушу штаны в таком случае, – сказал толстяк, – мы тоже сушим штаны. С какой стати он себя каждый раз выставляет? Мы все работаем одинаково, на равных, и нечего выкаблучиваться!
– А кто вам мешает тоже сушить штаны? – сказал Рауф. – Делайте вид, будто вы не рисуете, а именно… так сказать… сушите штаны… а?
– Бесполезно с ним разговаривать, – сказал Таракан.
– Нечего с ним разговаривать, – сказал толстяк.
– Каждый прав по-своему, – сказал Сашок.
– Миша работает как машина, – сказал Рауф. – Пикассо тоже работает как машина, но ни одной линии не проведет без напряжения, вот это художник! Не найдете у него вялости, ни за что на свете! У него все в напряжении, и я не могу без напряжения.
– Не испорти стенд, – сказал Миша, – не слишком напрягайся, если хочешь заработать.
– Пикассо все делает наоборот, – сказал толстяк, – птицы у него в аквариуме, а рыбы в клетке.
– А где, по-твоему, должны быть рыбы? – спросил Рауф.
– Разумеется, в аквариуме, – сказал толстяк.
– И рыбы, и птицы, и весь мир должен быть в голове у художника, – сказал Рауф.
– Хватит нам одного товарища с тараканом в голове, – сказал толстяк, – еще рыб не хватает.
– Ну вот, опять… – сказал Сашок.
– У меня готово, – сказал Рауф, поворачивая стенд на всеобщее обозрение.
Я увидел нечто, отдаленно напоминающее мою стену.
Миша положил палитру, подошел к Рауфу и сказал:
– А ну, сотри.
– Пожалуйста. – Рауф послушно смочил тряпку в скипидаре, стер свое художество.
– Больше ты стенда не получишь, – сказал Миша.
– Подите вы все в болото! – заорал Рауф, запуская тряпку в абажур. Он закачался, заплясали тени по мастерской. Хлопнула дверь за Рауфом.
– Он ни во что нас не ставит, – возмутился толстяк, – а мы ему работу достаем!
– Может, он принципиально считает, – сказал Сашок, – лучше без шапки ходить, чем такую работу делать. Каждый по-своему считает, и каждый прав.
– Я считаю, живопись – первое искусство… – вздохнул толстяк.
– А я – второе, – сказал Таракан, – несмотря на то что сам являюсь живописцем.
– Именно живопись есть первое из искусств, как говорил Рембрандт, – сказал Сашок.
– А по-моему, музыка, – сказал Таракан.
Все, кроме Миши, давно уже отвлеклись от панорам города и размахивали кисточками в воздухе.
– Что бы ты предпочел: видеть или слышать? – спросил Сашок.
Таракан подумал и сказал:
– Ну, видеть.
– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – выдал Сашок.
– Семь раз отмерь – один раз отрежь, – выдал Таракан.
– Работайте, ребята, – просил Миша.
От Миши отмахнулись. Спорили, что первое: музыка или живопись. Сыпались имена как из рога изобилия: Гойя, Тинторетто и Курбе, Чайковский, Дебюсси, Бетховен, Мясоедов, Максимов и Саврасов, Веронезе, Тициан, Эль Греко, Греков, Врубель и Рублев. Передвижники, кубисты, сезаннисты…
– Дулова отличная арфистка, – сказал я.
– Кто, кто? – все повернулись в мою сторону.
– Дулова.
– Какая Дулова?
– Кончаловский написал ее портрет.
– Ну и что?
– И больше ничего.
Совсем не к месту заявил я о Дуловой. Так вышло. Рудольф Инкович хвалил мне Дулову, и портрет ее написал Кончаловский. Рудольф Инкович смыслил в музыке, а Кончаловский не писал бы ее портрет, если бы она того не заслуживала. Глупо влез в разговор, я это сразу понял. Они завели дальше, а я больше влезать не стал.
Высохли мои штаны. Я оделся, попрощался, поблагодарил. Взглянул еще раз на стены с унылыми пейзажами и вышел на воздух. Мало я знал о художниках и всяких там полутонах. Ни черта я не смыслил ни в музыке, ни в живописи, а они хоть и знали, да толку что?
Парк был мокрый, пустой и темный. Темнела груда скамеек. Гудел в море пароход.
Скрипит трамвай на повороте. В нашем южном городе внутрь трамвая не любят залезать. Облепят его снаружи, висят со всех сторон, даже спереди. Не видно водителю дороги. Останавливает вожатый трамвай, выходит из своей кабины и кричит:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Голявкин Собрание сочинений. Арфа и бокс. Рассказы [сборник litres] обложка книги](/books/433337/viktor-golyavkin-sobranie-sochinenij-arfa-i-boks-r-cover.webp)