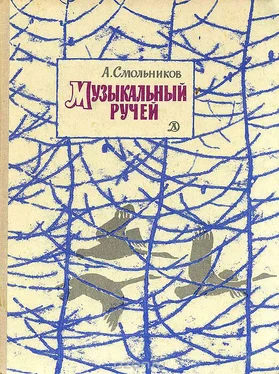Сейчас мы повернём туда, наверх, и уже не возвратимся. И я опять думаю — что бы такое сделать? Вот сейчас. И вдруг вижу камушек. Он лежит в воде, он вспыхивает, когда над ним проходит волна.
— Янтарь, — определяет отец.
Он оранжевый, огнистый — весь просвечивает, мокрый на мокрой ладони. Я знаю теперь, что надо сделать.
— Я догоню тебя, — говорю я отцу.
Камни качаются в прозрачной воде. Солнце нащупывает их, высвечивает, словно показывает, какой надо взять. Я уже не вижу воду, я вижу только их — яркие, как капельки рубина, горошины киновари, крупитчатые сахарные кварцы, зелёные, затаённо светящиеся изнутри сердолики. Как эта вода там, вдали.

Больше всего мне хочется взять сердоликов. Я вхожу в воду поглубже, стою минуту, чтобы она успокоилась, осматриваю дно. Их трудно заметить. Как же я раньше не догадался, что нужно сделать!.. Я пересыпаю их, мокрые, с ладони на ладонь, затем складываю в платок — узелок получился тяжёлый — и бегу наверх, в посёлок. Они пересыпаются в потемневшем влажном платке, и мне кажется, они шумят. Совсем так, как там, на берегу, когда бывает прибой. Я даже не думал, что они ещё и шуметь будут.
Отец уже вынес наши чемоданы. Он показывает мне коробку, говорит:
— Укладывай камни. Нас ждут.
— Ничего, ничего, — улыбается шофёр, — не торопитесь.
Все пассажиры в автобусе смотрят, как мы — сперва в коробку, потом вместе с коробкой в чемодан — укладываем камушки, и все тоже улыбаются, как будто и им приятно, что мы повезём в Сибирь эту коробку.
— Помнишь, — говорю я отцу, — когда мы приехали сюда, был вечер. Ветер дул. И что-то внизу шумело. Я спросил нашу хозяйку: «Что это?» Она не поняла: «Где — что?» — «Шумит…» — «А-а, это волны там гальку катают». Но мне слышался там ещё голос. Как будто далеко-далеко. И — один. Она послушала и опять сказала, что там только волны.
— Она просто привыкла, — сказал отец, — когда привыкнешь, не слышно.
Автобус уже поднялся в горы; море осталось внизу, невидное; пассажиры разговаривали кто о чём, а я всё думал про свои сердолики, и мне казалось, я слышал, как они шумят, — как шумит там, внизу, уже никому не слышное море…
* * *
Дома, в Сибири, я сразу же достал свою коробку, чтобы показать ребятам море. Но я не развязал её, я сначала тряхнул ею перед ними и спросил:
— Вы слышите?
— Орехи! — закричали ребята.
Я открыл коробку. Я до сих пор помню, что я там увидел. Сердолики погасли. Они лежали там, в коробке, белые, будто вываленные в муке…
Оставшись один, я мыл их водой, но они снова тускнели. И даже шумели уже не так. Наверное, потому, что в коробке. Я помню, как шумел прибой в тот, в первый вечер. Я даже помню тот голос — далёкий-далёкий. Но он приходит только ко мне, ни к кому больше, и всегда сам собой: сердолики тут ни при чём…
Они и сейчас лежат у меня в той же коробке. Я всё хочу вернуть их при случае туда, где взял. А случая нет и нет. Не попросишь же кого-нибудь везти с собой несколько тысяч километров камни! А объяснять, что́ они такое, — кто поверит…

Не знаю, что так привязало чирушку к этому неспокойному ручью. Мы поставили на берегу шалаш, жгли возле него костёр, то и дело стучали на гривке, отбивая косы, — мы ведь сено косить приехали, но утка никак не хотела оставлять своё место. Может, она просто привыкла тут к мелководной, поросшей осокой излучине, где всегда удобно укрыться от случайных гостей, а может, ей нравился донный ил. Не часто ведь находишь его на быстром ручье.
У чирушки были дети — стайка пушистых жёлтых утят. Утка, что ни минута, не ныряла даже — здесь это было не нужно, — а просто запрокидывалась в чёрную от тени воду, так что из ручья торчал только куцый хвост, и зачерпывала ил. Она проделывала это десятки раз кряду, даже когда наполнившийся её зоб округлялся — пусть смотрят, пусть учатся. И утята тоже доставали ил. Правда, нырять им в тёмную воду не хотелось — это ведь всегда немножко страшно, они брали ил у берега. Но маленькие лаковые их носики работали вовсю.
Мешал им там, на ручье, только ветер. Нам на сенокосе ничего — сено лучше сохнет да и комаров меньше, когда он дует. Но он налетал внезапно, стлал осоку, и тогда утят катило по воде, как сухие листья, — не удержаться. Чирушка скликала всех, торопилась куда-нибудь в затишек. Это был как бы перерыв, переменка — пора, в конце концов, и отдохнуть; да и перебрать намокшие пёрышки — тоже дело нужное.
Читать дальше