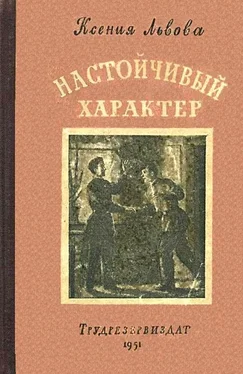- Вот здорово, - удивленно воскликнул Немцев. - Там же про часы, а он ревет…
- Это в основном письмо от матери, осел ты, - веско заметил Ученый. - Первое письмо из Краснодара после немецкой оккупации! Вот до чего довело тебя вранье, несчастный варвар, что сердце твое обратилось в кирпич. Чудо, что мать Грунюшкина осталась жива. Ее вполне могли немцы уничтожить. Понял ты?
И всем стало так смутно от слов Ученого, оттого что больше никто не знал о своих родных в Краснодаре.
Грунюшкин вернулся и лег. После слов Ученого никто не решался его задевать. А от слез его так у меня защемило сердце, что я не мог найти себе места весь вечер… Черт знает, насколько легче дурно относиться к человеку, чем хорошо. Хорошее отношение вызывает что-то болезненное и тревожит, а плохое оставляет равнодушным.
Вот с Антоном… Не уважал бы я его так безумно, и был бы совершенно спокоен. А то мучайся и чего-то ищи в себе особенного.
И пусть так! Тяжело, но я лучше согласен на это!
Грунюшкин стал работать замечательно. Однако жадность его оставалась прежней. Но это уж он, по видимому, унесет с собой в могилу…
На производстве попросят у него угольничек или гладилку, или крючок - такой плевый, можно сказать, инструмент, - ни-ни, никому не даст. Разве так допустимо в комсомольском коллективе? Или вчерашний случай: заболел Лукьянов. Надо ему отнести в больницу сахару. Ни у кого нет, а у Грунюшкина - целый мешочек в сундуке - Немцев сам видел. Так и не дал ни крупинки. Сидит, улыбается, как волк, и не дает…
А в общем, чего я разоряюсь. Лишь бы хорошо работал и не мешал выполнять план. Так и скажу Антону: «Твое задание выполнил. А насчет жадности семкиной - заявляй его прадедушке, который наверняка был единоличником, имел просорушку и держал штук пять батраков. Оттуда и пришла к Семке эта жадность. Могу я ликвидировать ее в какие-нибудь месяцы или дни, когда тут столетиями пахнет? Мне лично моего ничего не жаль. Пожалуйста, приходи и бери. Но как я могу внушить другому?..»
Ничего этого не пришлось высказывать Антону - не до того было. Накатили события исключительной важности: в соревновании ремесленников с кадровыми рабочими взяли первенство ремесленники, то есть наша группа формовщиков мастера Алексея Александровича Соколова. Для нас это явилось таким праздником, что выразить словами невозможно.
В цехе висела табличка с месячной выработкой: «Антон Островский - 2300 рублей, Петр Майоров - 1860 рублей. Семен Грунюшкин - 1591 рубль. И так далее. - Кто две тысячи, кто полторы - не меньше. А рабочие хоть на две, на одну сотню, но в среднем ниже.
Мастер сказал, ведя свою педагогическую линию, чтобы не зазнавались:
- Ничего в этом удивительного нет. Вы моложе, тверже телом, увертливее пожилого рабочего. И юного энтузиазма у вас больше. Иначе и не может быть.
Но, однако, он неправ. Нелегко и нам далось. Ночами не выходили из цеха, лишь бы не отстать и не упустить первенство. Все время мысль: «Кадровые обгонят. Они, а не мы лишний самолет для фронта выпустят». И уж какой тут сон.
Но с одной стороны мастер прав: стоило мне лично выспаться одну ночь,- и все утомление сразу забылось. Только осталось в бане с себя грязь смыть.
В бане у нас произошла такая встреча. Входим всей группой - пар, туман от кипятка, и в тумане видать, как моются несколько пожилых рабочих. Я толкнул локтем Антона.
- Смотри, это Павлов с Агейчиком.
Они против нашего звена соревновались. Павлов высокий такой, худой, лицо плоское, на лбу шрам. Нижняя челюсть вперед. Я его сразу увидел. Агейчик маленький, лицо всегда красное, волос густой, как у цыгана.
Павлов тоже нас увидел и кричит:
- Сюда, ребята! Здесь тазы порожние, и место свободное, целая лавка. Айда!
Руки у него длиннущие, у голого. Чудной. Я его в цеху боялся, а тут он совсем не страшный, а даже наоборот.
Агейчик, когда нас увидел, запел басом:
Мы красная ка-ва-ле-рия,
И про нас
Былинники ре-чис-ты-е…
И по бане отдалось через стук тазов: «о-о-о-о-о…»
- Молодая гвардия идет, - пробасил он, отфыркиваясь от мыла.
- А ведь они нас с тобой обставили, - заметил Павлов.
Он освободил место на лавке возле себя мне, Антону и Петру Иванычу, который робко за нас двух прятался.
- Ты чего прячешься? - поймал его своей длиннущей рукой Павлов и ущипнул за голый живот.
Он у Петра Иваныча пузырем, таким с детства остался. Павлов заметил, что он стесняется живота, и сказал:
- Ничего, со временем выравняется… Да ты что? У меня сын такой, как ты, чего ты стесняешься?
Читать дальше