
— А я через него бегом, бегом…
Бегал, бегал по чужим гумнам, и сам не знаю, куда больше бежать.
Слышу, опять на улице стреляют и чья-то изба загорелась. Гляжу хорошенько, будто не наша, а сам не верю: можа, наша? Сел я тут на гумно около соломы и давай плакать. Мне не избу жалко, наплевать — изба, пускай горит; мама вспомнилась: пымают ее солдаты, возьмут да застрелят нарочно, и останусь я без отца и без матери. Отец-то, может быть, и теперь бы жив был, если бы не записался в коммунисты. А он записался, поехал в город, дорогой его и убили казаки.
Сидел, сидел я на гумне около соломы, плакал, плакал, маленько полегче мне стало. Ноги начали зябнуть. Забыл я обуться дома, выбежал босиком, а тут дождик пошел накрапывать, сначала реденько, потом все сильнее. Зарылся я в солому, вспомнил, что у меня каши чугунок и давай пальцем ковырять ее.

Наелся будто голодный, согнулся над соломой, думаю:
— Зачем я кашу ел?
Кругом омета тихо стало, не слыхать ничего, ровно ушли все с этого места или в ушах у меня заглохло. Лежу, а сам все думаю, думаю, разные картины в голову приходят: тятю покойного вспомнил, как он коммунистом был, маму, как она двоих коммунистов на погребе прятала, и показалось мне, что я тоже коммунист, и если нападут казаки на меня, обязательно застрелят и разговаривать не станут. Подобрал я левую ногу, прислушался одним ухом, говорю себе:
— А где теперь мама? Чего с ней будет?
Лежал, лежал и уснул невзначай, проспал до самого утра. Утром высунул голову из соломы, гляжу, а кругом туман висит, не видать ничего. Стал глядеть хорошенько, а это не туман — дым густой, и село будто не наше стало — изб мало. Недалеко от меня около колосянки мужики сидят, бабы и ребятишки и тут же зыбки подвешены. Бабы плачут, мужики глядят молча. Подошел старик Пронюшкин с нашей улицы, увидал меня, говорит:
— Ты где, парень, бегаешь? Ведь изба-то у вас сгорела.
— Как сгорела? — спрашиваю я.
— Вот так и сгорела — половину села смахнуло в одну ночь. Казаки сожгли снарядами.
— А мама где?
— Мама твоя на пожарище там. Беги скорее туда…

— Мама твоя на пожарище там. Беги скорее туда…
Пришел я на то место, где стояла наша изба, а там один головешки валяются да труба печная торчит. На дороге убитая лошадь брюхом раздулась, и три человека вниз лицом лежат.
Мимо прошел дядя Никифор с завязанной головой, и раненого красноармейца провезли на подводе. Мама моя тихонько плакала, сидя на чурбашке у сгоревших ворот. У меня тоже слезы показались на глазах, ну я все-таки не стал плакать. Встал на теплую золу, начал ноги греть, потому что вместе с избой и сапоги мои сгорели.


АЭРОПЛАН
Колька жил на третьем этаже, а с третьего этажа видно, как народ по улицам ходит, извозчики едут и трамвай бежит. Зимой маленько хуже, весной маленько лучше. Когда начали открывать окошки, Колька каждый раз садился на корточки и целыми часами смотрел на большие дома и на маленьких людей, идущих вдоль больших домов. Над большими домами висит небо, на небе устроено солнышко и глаза от этого всегда щурятся, если смотреть на него. Засовывая палец в рот, Колька думает:
— Куда дальше — до неба или до земли?
Хорошо бы аэроплан устроить, вроде корзиночки, сесть в корзиночку и полететь в самое небо, прямо к солнышку.

— Хорошо бы аэроплан устроить…
Отломить если кусочек от него, тогда сразу можно узнать: жжется оно или холодное. Старший брат рассказывал, что солнышко горячее, может всю землю и все дома сжечь, но Колька не поверил этому.
Глядит он раз из окошка в третьем этаже, а над городом и летит этот самый аэроплан, как большая муха. Хвост видно и два колеса внизу. Сзади из хвоста дымок лезет будто из трубы. Завидно стало Кольке, и на улицу не хочется выходить. Взял он ножик большой, начал гвоздей искать. Попался ему ящик, в котором мать картошку держала. Вытряхнул Колька картошку из ящика на пол, сел с ножом около порожка и губы надул от большого раздумья: это он решил аэроплан сделать, чтобы к солнышку полететь. Надо только два колеса внизу приделать, крылья с хвостом и дымок пустить из хвоста.
Читать дальше
![Александр Неверов Как у нас война была [Рассказы] обложка книги](/books/410037/aleksandr-neverov-kak-u-nas-vojna-byla-rasskazy-cover.webp)







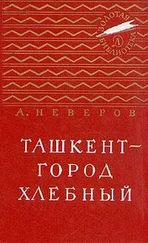

![Александр Неверов - Огненное кольцо [СИ]](/books/188497/aleksandr-neverov-ognennoe-kolco-si-thumb.webp)




![Александр Неверов - Горшки [Рассказы]](/books/388390/aleksandr-neverov-gorshki-rasskazy-thumb.webp)

