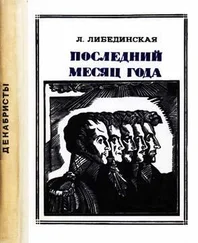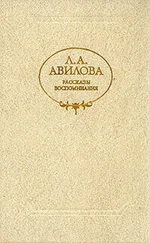– Спасибо тебе, Василий, – негромко и раздельно сказал Шушка.
Василий улыбнулся и махнул рукой.
– Не на чем, барин, дело такое, может, и ты за нас когда постоишь…
Все на свете имеет конец, – миновало и это знойное тягучее лето. Налетел ветер, нагнал груды тяжелых серых облаков, они толкали друг друга, громоздились и наконец пролились обильным крупным дождем. Потом дождь стал затихать, но совсем не переставал, а все сеял и сеял. Холодно, сыро, серо. Пожелтели и свернулись листья, ветер нес их по улицам и переулкам.
Лев Алексеевич несколько раз ездил к старшему брату, чтобы договориться о встрече для раздела, но каждый раз возвращался ни с чем: то братец болеть изволил, то просто находился в дурном расположении духа. Лев Алексеевич приезжал домой мрачный и раздраженный.
– Ну и норовистые мы, Яковлевы! – в сердцах повторял он.
Иван Алексеевич молча посмеивался.
Наконец однажды, уже в середине зимы, сенатор вернулся возбужденный и, весело потирая руки, сказал:
– Согласился. На той неделе пожалуют!
Иван Алексеевич исподлобья взглянул на брата, который своей танцующей походкой ходил из угла в угол гостиной.
– Уломали? – спросил он насмешливо.
– Уломал, уломал… – торжествующе ответил Лев Алексеевич. Он гордился тем, что так ловко выполнил возложенную на него миссию. «Теперь только бы Иван не испортил дела… – с тревогой думал он. – Этот тоже с норовом…»
Слух о том, что Александр Алексеевич соизволят пожаловать и речь будут вести о разделе, прошел по дому. Среди дворовых началось волнение.
Шушка никогда не видел своего старшего дядюшку и до сих пор мало что слышал о нем. Но теперь с утра до вечера только и разговоров было, что о старшем «братце».
Александр Алексеевич жил один в доме на Тверском бульваре, притеснял дворню и разорял мужиков. Лишенный всяких занятий, он от нечего делать заводил служебные тяжбы – тридцать лет судился из-за Аматиевской скрипки (жил в Италии такой знаменитый скрипичный мастер Амати) – наконец выиграл скрипку, хотя сам на скрипке играть не умел да и к музыке был равнодушен. Потом начал процесс из-за стены, что отделяла его дом от соседнего владения. Несколько лет судился, выиграл стену, которая была ему не нужна. Дворовые обходили его дом, боясь лишний раз попасться на глаза, и бледнели при одном упоминании его имени. Теперь дворовые служили в церкви молебны: лишь бы не достаться Александру Алексеевичу.
В людской только и разговоров было о том, кто кому достанется.
– Наш то хоть поблажит, да в обиду не даст, а от старшего братца один бог защитит… – с дрожью в голосе говорили крепостные.
Шушка с недоумением слушал эти разговоры. «Почему они так спокойно рассуждают о том, кого кому отдадут? – думал он. – А если бы меня захотели отдать? Я бы не позволил! – отвечал он сам себе. – Я бы убежал в дремучие леса, собрал верных людей и выковал оружие. Нет, нас никто не посмел бы тронуть, – с горячностью думал он. – У нас не было бы слуг и господ. Мы бы так хорошо жили, что всякий, кто узнал про нас, захотел бы жить с нами…»
Однажды в людской Шушка рассказал о своих мечтах Василию. Но тот только рукой махнул.
– Ты хоть и барин, а выдумщик, как простой мужик, – сказал он. – Только и до тебя такие люди водились. Тоже соображали, как без господ жить. Хорошо задумывали, плохо кончали. Разин Стенька, Емеля Пугачев. Одному голову на Красной площади отрубили, другого в клетке на Болоте заместо зверя показывали. Мне бабка моя сказывала, сама видела: приедут барыни, красивые такие, и зонтиками в клетку, что в собаку, тычут, тычут…
– А он что? – широко раскрыв серые, потемневшие от гнева глаза, спрашивал Шушка.
– Чего ж он может, в клетке ведь…
Шушка попробовал заговорить об этом с мадам Прево, но у Лизаветы Ивановны глаза стали круглыми от страха, и она в испуге замахала руками.
– О, мой мальчик! – воскликнула она. – Я видела французскую революцию! Какие ужасы делал Робеспьер! Нет, нет, как это можно без господ?
И она завела бесконечный рассказ о том, что творилось в Париже в 1793 году. Она говорила об ртом с ужасом, а Шушка слушал затаив дыхание. Много – бы он отдал, чтобы побродить по городу, где на улицах отплясывали карманьолу и называли друг друга не «кавалер» и «дама», а «гражданин» и «гражданка»! Танцевали в развалинах монастырей («Такое богохульство!» – восклицала мадам Прево) при свете лампадок, на алтаре. Мужчины носили синие тирольские камзолы и закалывали сорочки булавками, которые назывались – «Свобода», потому что украшены были красными, белыми и синими камнями, – цвета флага Французской республики. И звучали лозунги: «Свобода, равенство и братство!» «Какие хорошие слова! – думал Шушка. – Все люди свободны, равны, все люди братья…»
Читать дальше