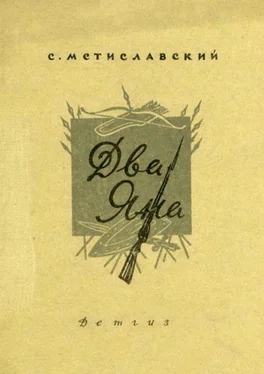— Тут-то пращур мой и взял перчатку. Потому что подняться гроссмейстеру не дали: сбили шлем, нож в горло. Чей был нож — русский, чешский, литовский, польский, — нельзя, конечно, сказать точно, потому что в этот момент не было никакого строя, все были перемешаны. По совести должен сказать: наверно, во многих семьях, как в нашей, есть предание, что именно предок этой семьи нанес последний удар гроссмейстеру. Когда у тебя на глазах происходит такое, невольно хочется каждому сказать: «Это я!»
— Такой же смертью погиб и маршал фон-Вальроде. Никто уже не кричал больше: «Христос воскрес!», так как очевидно было, что он не воскреснет. Рыцари кричали теперь: «Пощады!» и гнали коней во все стороны по лесу, пробуя уйти от погони. Но их ловили — и в лесу, и в поле, и в болотах, где вязли их тяжелые кони. И заковывали в цепи. Цепи были под рукою: рыцари предусмотрительно возили их за седлом, чтобы заклепать руки и ноги знатному пленному, если такой попадется, здесь же, на месте. Мало кто спасся в этот день. И день этот стал рубежом: дальше немецкий «напор на восток» не пошел.
Обер-ефрейтор замолчал. Молчали и слушатели. Потом Любор сказал непривычно серьезно:
— Да… действительно есть что вспомнить. И, признаться, странно мне, что именно здесь, в Меленках каких-то, в дождь и в ночь, а не в Чехии нашей, на полном солнечном свете, нам напомнили о Танненберге и смоленских хоругвях. Благодарим вас, господин обер-ефрейтор. И тебе спасибо, Ян, хотя…
Он не договорил и прислушался. В самом деле, шум на дороге. Идут… Солдаты поднялись, напряженными, настороженными стали лица. Шум идет со стороны деревни. Там штаб, обозы, войска… Но приходится ко всему быть готовым, даже к самому невероятному. Шум расчленился на топот десятков ног. Идут нестройно, толпой, по шагам слышно.
Донеслась четкая немецкая команда.
— Налево? К нам?
Окрестная мгла, недвижная, заколыхалась. Глаза, привыкшие к темноте, различили черные, чернее мглы, силуэты солдат, вскинутые наизготовку винтовки, а за ними бесформенную, но многоголовую массу, медленно и жутко шуршавшую ногами по мокрой колючей траве.
— Крестьян гонят, — шепотом сказал Войтак. — Зачем сюда, к нам?
— Чтобы мы помнили о Танненберге, — ответил, сжимая челюсти, Ян. Глядя на двигавшуюся медленно толпу, он решил окончательно: будь что будет, но это последняя ночь. — Под Танненбергом чешский бивак был рядом с русским, ты помнишь?
Любор быстро взглянул на Яна. Но ничего не ответил.
Потом шорох ног смолк. Команда опять. Они садятся, они ложатся… В самом деле, таборы будут рядом в эту ночь.
Он не сомкнул глаз в эту ночь, Ян. О себе он не думал. О себе решено давно: еще тогда, когда он вызвался добровольцем. Для того и вызвался, иначе как было попасть сюда — на единственную землю, на которой вольно и радостно, во всю грудь, дышат люди. И придти не с пустыми руками, придти так, чтобы сразу же заслужить товарищеское, дружеское, братское пожатье. Не только оружие с собой принести, но и привести с собою… отделение?.. роту? Пойдут? Драться никто не хочет во всем батальоне, не только роте. Как потемнели у всех лица, как сдвинулись брови, когда он рассказывал о попытке чешских рыцарей продаться немцам! И когда о наемниках шел разговор… А ведь сейчас хуже всякого наемничества: чехи не только проливают свою кровь за чужое, за вражье дело, но еще и платят за это немцам всеми богатствами чудесной своей страны. Не им платят за раны и смерть — они платят! Жаль, раньше не пришла эта мысль, надо было бы швырнуть ее тому, кто о продажных шкурах сказал.
Он прислушался. На биваке тихо, недвижно стоят часовые, но по дыханию лежащих слышно: никто не спит. Красной вздрагивающей точкой то разгорается, то темнеет огонек папиросы в зубах обер-ефрейтора: Штепанек тоже не спит. И, наверное, думает о том же. Поговорить с ним? Для роты он безусловный авторитет. Или лучше, надежнее, чтобы каждый для себя сам додумал: так будет крепче. А мысль — куда еще может она идти, как не туда, куда она вела его, Яна! И такие дела надо делать сразу. Сговариваться заранее? Нет.
Тем более что «к каждому ранцу пришиты уши». И так командование очень неспокойно: уже четвертый раз проходил за ночь обходом капитан. Никогда еще так не бывало…
* * *
Только бы не случилось, как было семнадцатого, как было в прошлых боях. Сразу завязывался такой отчаянный бой, такой адов огонь, что мыслей не собрать, не выбрать момента. И кругом всегда люди, свое отделение, которое под таким огнем как-то стыдно бросать. Словно из трусости. Три месяца — и случая не удавалось схватить. Матвею и многим еще — и чехам, и австрийцам, и немцам — посчастливилось, ему до сих пор нет. Но у Матвея не было под начальством отделения, ему было проще. Сейчас все отделение пойдет, только бы выдалась удобная минута — дать сигнал, показать пример…
Читать дальше