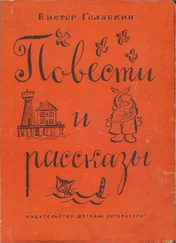— Может, мне, старшина, гранатку дозволите? — подал голос Телегин. — Я неплохо бросаю.
— Не могу. Приказано мне. Твоя задача — с Лукьяновым проходы пробивать.
Старшина помолчал немного, потом вдруг сознался:
— Скажу вам, хлопцы, честно: волнуюсь — не промахнуться бы! Все дело загубить могу, потому и на душе неспокойно.
Все понимали ответственность, возложенную на него. Подбадривая, Прохоров посоветовал:
— Поближе подползти надо, чтоб наверняка было, вот и все.
До двенадцати оставались минуты. Бондаренко тронул Прохорова за локоть, похлопал Юру по плечу и растворился в темноте.
Все осторожно двинулись за ним. При плотном дожде прожекторы не просвечивали местность. Шум дождя мешал сторожевым собакам что-либо услышать.
Юра полз вместе с Прохоровым. Больше он никого не видел, но был уверен, что по этой мокрой, скользкой земле ползли и другие группы, готовые при взрыве гранаты броситься к проволочному заграждению и пробивать себе путь к свободе.
Вдруг Прохоров остановился и тихо предупредил:
— Дальше нельзя, будем ждать здесь… Жаль, что бога нет. Я бы сейчас любую молитву сотворил, только бы старшина врезал фашистам в самое яблочко.
Юра слушал Прохорова и молчал. Лежать на земле под проливным дождем было холодно. Он начал дрожать. Чтобы согреть мальчика, Прохоров стал легонько шлепать его по мокрым плечам и спине.
— Терпи, казак, атаманом будешь.
Юра терпел. Не ради атаманского звания, а ради общей свободы.
Метнулась по небу молния, с треском рассыпался над головой перекатистый гром и покатился вдаль, затихая. Юра втянул голову в плечи и прижался к Прохорову.
Дождь хлынул еще сильнее. Хотя все ждали взрыва, но он прозвучал неожиданно и глухо. На угловой вышке погасли прожекторы, стало совсем темно. Прохоров сильно дернул Юру.
— За мной, быстро!
Около туалетов они задержались. Прохоров мигом оторвал две доски и устремился к ограждению. Бондаренко ждал их, схватил у Прохорова одну доску, и они вдвоем стали сбивать колючую проволоку. Глухие удары слышались слева и справа.
Взревела сирена. На соседних вышках заметались едва заметные лучи прожекторов. Раздались пулеметные очереди. Нетерпеливым лаем залились сторожевые псы.
Обгоняя друг друга, люди стремительно мчались вперед.

Юра не помнил, как в общей сутолоке проскочил ограждение, за что-то зацепился и упал. Его подхватил Бондаренко, потащил в сторону леса.
Прохоров стал отставать.
— Что с тобой? — тревожась, спросил Бондаренко.
— Не могу идти. Коленом ударился. — Прохоров оступился, упал. — Вы уходите, а я как-нибудь один.
— Ты что, с ума спятил! — Бондаренко подскочил к нему, взвалил на плечи и повернул в поле. — Юра, сворачивай в рожь. До леса не успеем, ну, живее!
Юра свернул в поле. Бежать стало труднее. Ноги скользили и вязли в грязи. Рядом тяжело дышал Бондаренко.
— Пусти, — просил Прохоров, пытаясь вырваться.
Бондаренко крепко выругался и сильнее стиснул Прохорова. Тот смирился и замолчал.
Частая стрельба, бешеный лай собак, надрывный рев мотоциклов — все это удалялось в сторону леса.
Бондаренко, тяжело дыша, медленно продвигался по вязкой земле.
— Отдохните, — шептал Прохоров, — хоть самую малость.
— Нет! — Бондаренко пытался ускорить шаг, но сил уже не было. Прошел еще несколько метров и остановился совсем. От слабости кружилась голова… Прохоров соскользнул на землю.
— Я постою пока, отдохните.
— Как нога?
— Распухла… Да это чепуха. Главное — вырвались.
— Верно, вырвались… Ну-ка, держись, Никола, я партбилет достану.
Бондаренко достал из ботинка партбилет. Переложил в карман.
— Промок-таки. Ну и дождичек! Всю жизнь помнить буду… Давай, Никола, полезай на свое место. Поехали.
Прохоров обхватил старшину за плечи, но вдруг что-то вспомнил, достал из кармана размокший сухарь и протянул его Юре.
— Держи. Тоже для тебя берег. Ешь и Федота своего вспоминай. — Сухарь был пресный, безвкусный, и, только разжевав его, Юра почувствовал знакомый хлебный вкус.
Дождь не прекращался. По-прежнему сверкали молнии, перекатывался гром. Казалось, ливню не будет конца.
Группа медленно удалялась от зловещего места. Ни выстрелов, ни лая, ни рева мотоциклов уже не было слышно. Шли полем. Ноги глубоко вязли, идти становилось все труднее и труднее. Часто останавливались, отдыхали.
Читать дальше


![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)