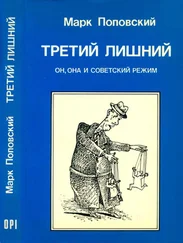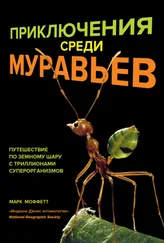…Нет ничего более чуждого правде жизни, чем попытки некоторых биографов искать зачатки будущих подвигов и открытий в детских играх и развлечениях великих людей. Не станем грешить против истины. Из двух братьев Вавиловых собирать гербарии более всего любил младший - Сергей, будущий знаменитый физик. Он же поражал родителей отличной осведомленностью в названиях растений и животных. А великим биологом, ботаником, растениеводом стал тем не менее Николай, деливший свои юношеские увлечения между астрономией, археологией и… физикой. Но что правда, то правда: интерес к расселению культурной флоры возник у старшего из братьев очень рано, наверно еще до поступления в Петровскую академию.
В Кембридже, где профессор Бэтсон развивал у своих сотрудников и учеников интерес к мировым общебиологическим проблемам, вопрос о том, откуда появились на крестьянских полях культурные растения, окончательно стал для Николая вопросом жизни, главной темой поисков. Потом - Саратов, размышления об итогах памирской и персидской экспедиций. Книги Дарвина, Линнея, Декандоля, Гумбольдта, Гена - на столе. Постепенно становится ясным: проблема происхождения культурных растений, несмотря на ее солидный возраст, все еще пребывает в стадии младенчества. А ведь первые попытки разыскать родину так называемых полезных растений относятся к середине XVIII века! С тех пор утекло немало воды. А что подлинно достоверного известно науке? «Местопроисхождение, первоначальное отечество наиболее полезных для человека растений… представляется такой же непроницаемой тайной, как и вопрос об отечестве домашних животных… Мы не знаем, в какой области появились первоначально в диком состоянии пшеница, ячмень, овес и рожь…» - писал в 1807 году немецкий путешественник и естествоиспытатель Александр Гумбольдт. Англичанин Роберт Браун и швейцарский ботаник Альфонс Декандоль первыми представили на суд современников свои более или менее серьезные соображения по этому поводу. Особенно значительны были труды Декандоля, первую книгу которого (1855) Чарлз Дарвин назвал «превосходной». Глазами швейцарского ботаника наука впервые серьезно обозрела огороды, поля и сады земного шара, с тем чтобы разобраться, откуда появились все наши злаки, овощи, садовые деревья и как давно эти кормильцы человечества введены в культуру.
Декандолю пришлось обратить свою мысль не только в дальние страны, но и в далекие эпохи. По его расчетам, земледелие стало для людей насущно необходимым не менее как шесть - восемь тысяч лет назад. В Египте на пирамиде, построенной за 4000 лет до современного летосчисления, изображены гроздья винограда; в Китае обряд, по которому ежегодно в торжественной обстановке высевается пять полезных растений: рис, соя, пшеница и два сорта проса, восходит к 2700 году до н. э. Труднее было определить географическую точку, откуда пришла та или иная культура. Где родина пшеницы, кукурузы, томатов? Представляется, что она там, где более всего распространены эти растения. Но ведь человек издавна привлекает на свои поля пришельцев дальних стран. Торговля, переселение народов, заморские путешествия сделали поля Европы, Азии и Америки прибежищем целого растительного интернационала. Искать родину пшеницы в самых пшеничных странах мира - в Канаде и Аргентине - бессмысленно, ибо известно, что до Колумба Америка вообще не знала хлебов. Столь же спорно происхождение овса и ржи, хотя более всего их сеют в Европе.
Декандоль не имел обыкновения путешествовать в поисках того, или иного растения. Но в доме его отца, тоже известного ботаника, хранились гербарии, содержащие до 80 000 растений. Обозревая этот засушенный эдемский сад, ученый рассудил, что родина каждого культурного растения находится, видимо, там, где мы можем обнаружить его диких предков и родичей. Ибо (так, по крайней мере, казалось в средине XIX века) у прирученной пшеницы, кукурузы, яблони и огурцов где-то неизбежно остались их некультурные предки. Такая теория выглядела довольно достоверной. Однако когда швейцарец попытался по книгам, гербариям и свидетельствам путешественников разыскать дикую родню 247 наиболее распространенных культурных растений, его постигло разочарование. Несмотря на то что для решения ботанической задачи он привлек документы истории, данные археологии и даже сведения из лингвистики, в графе «происхождение» ему пришлось поставить 72 вопросительных знака. Для каждого третьего, известного в человеческой культуре растения дикого родственника найти не удалось. А раз так, то и родина их осталась невыясненной.
Читать дальше


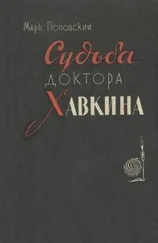
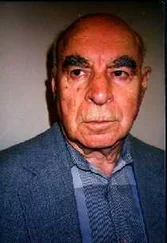
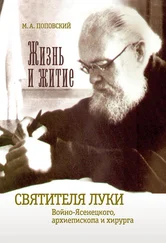
![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)