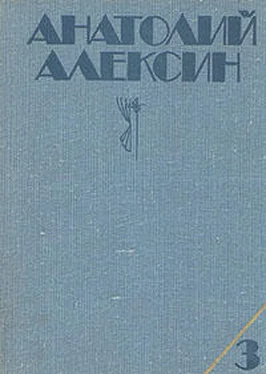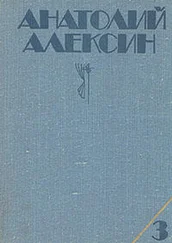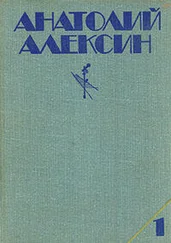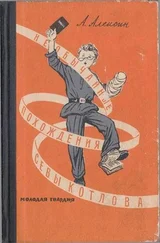— Нет, это я сказала: «Тогда и мы с Машей поедем». Вспомни... И ее маму я уговорила. Не ты, а я! Можно было не ехать?..
— Всего, что сейчас происходит, прекрасно было бы не делать, если бы не война! — перебил Ивашов. — Вы не смеете приписывать себе ее преступления и кошмары. Так что выбросьте из головы!
Он положил руку на голову дочери, из которой горестная мысль — я это видела — никогда уже уйти не могла.
— Иван Прокофьевич, оперативка ждет, — — напомнил главный инженер. С виду он был похож на главного бухгалтера — сутулый, в пенсне (не все штатские успели перестроиться, подтянуться!), но по голосу, отрешенному от всего, кроме дел, заданий, приказов, напоминал начальника штаба. — Я должен сообщить по поводу эвакуации коллектива! Составы вот-вот придут.
Война заставляла смотреть только вперед: обернешься — и проглядишь, подставишь затылок.
Уходя, Ивашов сказал:
— Самолет сделает посадку в Москве. Я отвезу ее... домой.
— И я с вами, — повторила мама. — Вы к этому не приспособлены. Вот таким образом.
В решительные минуты она пользовалась фразой Ивашова. Обыкновенные, расхожие слова убеждали маму в ее правоте просто потому, что были его словами.
Это был последний Машин полет. Я думаю, он был и первым. Вместе с мамой и Ивашовым она высоко в воздухе обогнала наш эшелон и приземлилась в Москве, чтобы уже ни в каких случаях с нею не расставаться.
Когда мы, минуя столицу, добрались до Урала, Ивашов уже оказался там.
— А где...
— Пока что Тамара Степановна осталась с Машиной мамой, — перебил он меня. — Одну ее оставлять было нельзя: муж уже на фронте.
— А дальше?
— Может, Тамаре Степановне удастся привезти ее сюда, к нам. Здесь, как на фронте, легче оглушить себя и забыться.
— Так много будет работы?
Удивляясь моей наивности, он обнажил верхние зубы, безукоризненно белые и до того крепко притертые один к другому, что мы раньше, до войны, называли их — «враг не пройдет». Теперь эти слова прозвучали бы кощунственно.
Продолжая мысль о том, что здесь можно забыть обо всем на свете, кроме войны, Ивашов сообщил не мне, а скорей себе самому:
— Невыполнимо! Теоретически то, что нам поручила, невыполнимо. А практически — не выполнить нельзя. Вот таким образом. Парадокс военного времени.
В стройгородке Ивашову тоже предоставили квартиру. Двухкомнатную... И это ни у кого не вызвало зависти, удивления, хотя даже место в бараке считалось роскошью: многие жили в палатках.
— Когда я увижу тебя? — спросила Ляля отца, собиравшегося в стройуправление.
— Пусть Дуся и Тамара Степановна, когда вернется, живут с нами. Тебе не будет одиноко, — ответил он. И обратился ко мне: — Договорились?
— Если это удобно, — ответила я.
— Было бы неудобно, я бы не предлагал.
Это уже прозвучало приказом.
Машина за окном так резко рванулась, будто оторвалась от земли, — и умчала его.
— Я убила Машу, — повторила Ляля. — Она из-за меня поехала... на те оборонительные сооружения. И именно ее... Почему?
— На войне таких вопросов не задают, — уверенно, потому что это была его, ивашовская, мысль, ответила я. Потом добавила: — Маше хотелось быть рядом с Ивашовым. Как и мне...
Я пыталась снять грех с Лялиной души.
— С ним — это значит со мной.
— Не совсем...
— Что ты хочешь сказать?
— Мы были влюблены в Ивашова. То есть Маша... Вот таким образом.
Никуда не денешься, Лялечка.
Мама приехала через полтора месяца одна... С попутным эшелоном, проходившим мимо нашей станции; авиационный завод переезжал из Москвы куда-то в Сибирь.
О Машиной маме она виновато сообщила:
— Тоже ушла на фронт. — И с грустной иронией, адресованной себе самой, переиначила слова песни: — Дан приказ ей был на запад, мне — в другую сторону.
— На фронт?! У нее хронический диабет...
— Кто сейчас помнит об этом?
— Смерть искать... ушла?
— Смерть врагов! — ответила мама, предпочитавшая иногда жесткую определенность.
Она была из тех женщин, которым жизнь еще в школе объяснила, что на мужские плечи они рассчитывать не должны. Мама рассчитывала лишь на себя... И я стала такой, хотя ее плечи с младенчества казались мне по-мужски сильными, от всего способными заслонить.
Ляля не знала своей матери, а я не знала отца. Но вдруг наши семьи вроде бы увеличились: в стройгородке маму приняли за жену Ивашова, а меня стали считать Лялиной сестрой — кто родной, а кто сводной. Я объясняла, что мама всего-навсего подруга покойной жены Ивашова... Но объявить об этом по местному радио или напечатать в многотиражке я не могла.
Читать дальше