«И ты, Брут!» говорил Цезарь другу и, завернувшись в тогу, падал мёртвый к подножию колонны.
Да, это был Брут, великий сторонник республики, который без колебаний поднял кинжал на друга, потому что Цезарь изменил свободе отечества и пожелал стать тираном!
— Древние римляне готовы были умереть за дело общее! — восклицал Жанно.
Жанно особенно уверовал в общее дело с тех пор, как лицеисты сообща прогнали Пилецкого.
— Все были как один, — говорил он Пушкину, — даже Горчаков, кажется, присоединился!
Горчаков на самом деле не присоединялся. Они с Корфом стояли вдали и молчали. При этом Горчаков рассеянно улыбался, а Корф надувал щёки. Оба не любили «общих дел».
— У нас дружба, — отвечал Пушкин, — мы вольные студенты. А ещё недавно были мы дурнями…
Пустые потасовки в Лицее прекратились. Ими занимался только такой глупец, как Мясоедов, прозванный «Мясожоровым».
По учебной табели первым учеником был Суворчик-Вольховский. Он учился не за страх, а за совесть, не теряя ни одной минуты. «Расписание дня» висело у него над кроватью, а на столе тикали часы.
Вторым учеником был Горчаков. Этому, казалось, учиться ничего не стоило. Никто никогда не видел его над книгой. Он часами приводил в порядок свои ногти и волосы. И, однако, все профессора были от него в восторге.
— Конечно, Горчаков мог бы быть первым, — говорил Фролов, — ежели бы менее занимался собою. Но за что особо хвалю его — мундир в порядке! У других, глядишь, то пуговица болтается, то петлица отскочила…
Пуговицы болтались обычно у Пушкина.
Жанно был на четвёртом месте, поближе к началу. Пушкин был на семнадцатом, поближе к концу. Так как за столом сажали учеников по табели, то Пущин сидел далеко от Пушкина, но недалеко от раздатчика каши. Пушкин на это сказал: «Блажен муж, иже сидит к каше ближе»… Ему было всё равно, на каком месте сидеть.
Про Пущина в табели было сказано: «Прилежен, способен, отличных дарований». Про Пушкина: «Прилежен, но нетерпелив, в российском языке не столь твёрд, сколь блистателен».
Особым занятием лицеистов было сочинение стихов. Сочиняли стихи многие. Писал торжественные строки Кюхельбекер, писал песни Дельвиг, писал эпиграммы Илличевский, писал Пушкин.

Писал он по ночам, ломал перья, бормотал, стучал в перегородку и читал стихи Пущину, который спросонок ничего не соображал, но стихами восхищался.
Саша Пушкин посылал свои сочинения дяде и друзьям.
Жанно и Кюхля знали, что стихи Пушкина собираются печатать в журналах и что дядя Василий Львович читает его стихи знакомым и называет Сашу своим «собратом по музам».
Жанно ничего не понимал в стихах. Он видел, как страдает из-за неистовых стихотворных припадков Кюхля и как не спит по ночам Пушкин. Жанно уважал и того и другого. Это были мальчики особенные, отмеченные гением! Но Жанно им не завидовал. Он рисовал себе своё будущее по-другому. То ему казалось, что он будет офицером и умрёт на поле сражения, спасая полковое знамя. То казалось, что будет он законодателем и произнесёт речь в сенате, потрясая умы новыми, высокими мыслями. Он признавался в этом Пушкину.
— В нашем сенате-то? — презрительно сказал Пушкин. — Да ведь это собрание старых развалин!
— Ты ужасно насмешлив, — обиженно проговорил Жанно.
Зато Кюхля ему посочувствовал, пожал руку и даже всхлипнул.
Кюхля продолжал потрясать Лицей неожиданными поступками. Он обижался, когда ему за столом подавали первое не в очередь. Однажды он забрал тарелку со щами у Малиновского и поставил перед собой.
— Ты по порядку после меня! — объявил он гордо.
Казак-Малиновский вспылил, схватил тарелку и вылил щи Кюхле на голову.
За столом началась сумятица. Многие лицеисты повскакали с мест.
— Мы будем драться на пистолетах! — завопил мокрый Кюхля, сбрасывая с ушей капусту. — Сейчас же! Пущин мой секундант! Ты согласен, Жанно?
— Вильгельм, хватит бесноваться, — сердито сказал Пущин. — Малиновский извинится. Ваня, что же ты молчишь?
— Да… конечно… — промямлил Малиновский. — Я вовсе не то… а что же он говорит?..
— Стреляться! Сию минуту! — кричал Кюхля.
При этом он потрясал ложкой и страшно сверкал глазами. За столом раздался смех.
— Кюхля, ложка не заряжена, — заметил Илличевский.
Кюхля вдруг бросил ложку на пол, побагровел и убежал.
Панька, садовников сын, подметал дорожки вокруг Скрипучей беседки, как вдруг услышал топот. Сквозь кусты с треском прорвался Кюхельбекер в расстёгнутом мундире, взлохмаченный и потный. Он остановился на берегу пруда, простёр руки к небу, потом ухватился за голову и зашагал прямо в воду.
Читать дальше
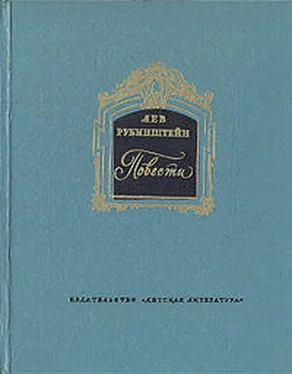





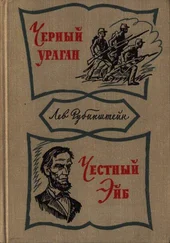




![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
