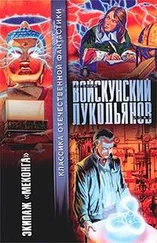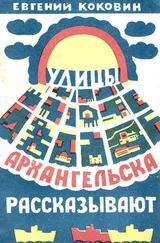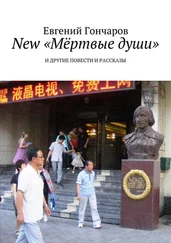Весна приходит на архангельскую землю без журчания ручьёв, без цветения роз и без майского грома. Весна приносит на Север медлительно-ровное, колдовское посветление ночей, коварство распутиц на просёлочные дороги и неукротимый ледоход с тревожным подъёмом воды — на большие реки.
Порт встречает весну гудками ледоколов и надрывным завыванием сирен.
Приказы начальника порта о ледокольной кампании и открытии навигации предельно кратки, чётки и суховаты. Но меня они волнуют. Приказы печатаются на четвёртой странице в местной газете. Читая их, я слышу первый пароходный гудок, команду вахтенного штурмана, шум брашпиля и металлический перебор машинного телеграфа.
Я слышу и голос самого начальника порта и вижу его, седого коренастого мужчину в морском кителе. В молодости, говорят, он был портовым грузчиком. Влюблённый в пароходы и парусники, гавани, ковши и причалы, с детских лет я помню по фамилиям всех начальников нашего порта.
И осенью тоже подступает беспокойное чувство, но уже без радости, горьковатое: скоро конец навигации.
Я захожу к начальнику порта. Он легко определяет моё настроение:
— Чем недоволен?
— Навигация-то скоро закроется…
— Продлим. Видел, какие у нас теперь ледоколы! А вот-вот и у нас будет навигация круглогодовой. И в январе, и в феврале, и в марте будем грузить.
Я верю ему. Деловой, работящий, добрый народ портовики!
Мой отец тоже был портовиком. Он служил в Дирекции маяков и лоции Белого моря. К старости, лишившись ноги, он ковылял на деревяшке и громко именовался смотрителем створных знаков в морской слободе Соломбале и на судоходном рукаве Северной Двины — Маймаксе, а проще — был фонарщиком. Отец гордился личным знакомством с Георгием Яковлевичем Седовым. Перед походом Седова к полюсу отец чинил на «Святом Фоке» паруса и ремонтировал такелаж. Был он и умелым плотником, и столяром, шил лёгкие шлюпки, а однажды на досуге смастерил мне расчудесную полуаршинную поморскую шхуну. Это был мой первый корабль. Он совершал длительные рейсы в бассейне узенькой речки Солом-балки, забитой лодками, шлюпками и карбасами. У соломбальских ребятишек шхуна вызывала восхищение и зависть.
В мальчишестве самым закадычным моим другом был ровесник Володя Охотин, отличный пловец и неуёмный рыболов. Во всех ребячьих смелых предприятиях нам покровительствовал умный и мечтательный юноша Андрей Семёнов. Он жил на нашей улице и пользовался у нас непререкаемым авторитетом. Отец Андрея — крупнейший водолазный специалист страны, страстный охотник, настоящий следопыт и меткий стрелок — был обожаем ребятами Соломбалы.
Позднее у нас появилась большая и тяжёлая корабельная шлюпка «Фрам». На «Фраме» мы путешествовали по Северной Двине и по её бесчисленным притокам.
Андрей был до фанатизма влюблён в Арктику, знал имена и биографии её исследователей, мог показать на карте все арктические земли, острова и островки. Он учился в мореходном училище и мечтал стать полярным капитаном. Фритьоф Нансен был его кумиром.
Однажды мы плыли на «Фраме» по Северной Двине. Навстречу, с моря, шло гидрографическое судно «Пахтусов». Володя прочитал название парохода и спросил у Андрея:
— Кто такой Пахтусов?
— Это был полярный путешественник. Он исследовал Новую Землю и умер почти сто лет назад, — пояснил Андрей и спросил: — И знаете, где он похоронен?
Конечно, мы этого не знали и потому молчали.
— Он похоронен у нас в Соломбале, — сказал Андрей.
— У нас? В Соломбале? Где?
Поверить было трудно. Наша маленькая, хотя и древняя морская слобода Соломбала — и такой знаменитый человек, именем которого даже назван большой пароход. Правда, в Соломбале Пётр Первый построил первые морские корабли, которые ушли под русским флагом за границу. И всё-таки…
Вечером Андрей потащил нас на кладбище. Оно находилось за Соломбалой и было похоже на все другие русские кладбища: тихое, заросшее ольхой и берёзой, черёмухой, рябиной и ивовыми кустами. Тут росли трубчатая бадронка, сочная сладкая пучка, дурманящая до головокружения нежно-жёлтая душмянка. В ботанике все эти цветы и травы, вероятно, имеют другие названия.
За небольшой кладбищенской церковью в тесной металлической ограде лежал большой обтёсанный камень. На камне — крест и адмиралтейский якорь. И высечено:
«Корпуса штурманов подпоручик и кавалер Пётр Кузьмич Пахтусов. Умер в 1835 году, ноября 7 дня. От роду 36 лет. От понесённых в походах трудов и д… о…»
Читать дальше
![Евгений Коковин Экипаж боцмана Рябова [Рассказы и повести] обложка книги](/books/30236/evgenij-kokovin-ekipazh-bocmana-ryabova-rasskazy-i-cover.webp)