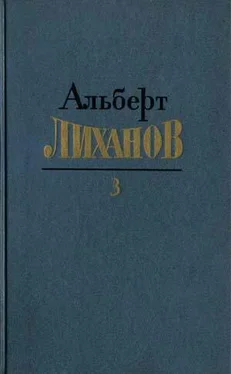Кланька продолжала писать, он складывал ее письма в мешок, но она настигала своими письмами, видно поняв, что он все знает, настигала через милицию, что ли? — и здесь, в тайге, в партии, куда он устроился, уйдя от тех парней из общежития.
Тут, в группе, никто не досаждал ему с разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое — выносливость, старание, безотказность, и он среди них отошел, отогрелся.
Лежа у костра, успокоив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотрят они на него, что спросят. В конце концов, Кланька еще не пуп земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, вдова.
И только мысль о Шурике, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.
Взглядывая в костер, в кровавое его пламя, Симонов думал, что все не просто, что Нюрка — это так, заблуждение, и что Шурик — вот в ком его самый главный смысл жизни.
— Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?
— Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.
— А в случае ЧП?
— Есть аварийная радиоволна, которую наша радиостанция прослушивает постоянно, в конце каждого часа.
— Я проверял. И простые и аварийные радиограммы центральная радиостанция принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанции. Но я хотел бы поговорить о системе рассмотрения радиограмм.
— Пожалуйста.
— Начальник радиостанции, начальники партий показывают, что очень часто радиограммы групп, адресованные вам как руководителю отряда, валялись на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи для вас норма, обычное дело.
— Но в этом случае все было не так.
— Разберемся, как было в этом случае…
24 мая. 22 часа 15 минут
СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО
— Вечерний сеанс, — напомнил он Славке Гусеву, надев наушники и подкручивая настройку.
Слава встрепенулся, обтер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привычно:
— Передавай!
Семка перекинулся с радистом отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.
— Давай! — велел тот. — Работы идут нормально. Закончим объект двадцать пятого вечером — двадцать шестого утром. Последующую связь уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка, — и рубанул твердой, как лопата, ладонью, — Гусев.
Семка передал радиограмму, попрощался с отрядом, снял наушники.
— А ветер-то правда теплый! — сказал он удивленно. — Я и не заметил.
— Во дает! — засмеялся Гусев. — По брюхо искупался, а что весна, так и не заметил.
— И правда, братцы, — виновато ответил Семка. — Совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все, поди-ка, цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.
— Греби шире! — откликнулся дядя Коля Симонов. — Не-е, ныне весна запоздалая.
— Да она в здешних местах всегда такая, — засмеялся Слава. Наверху-то река уже давно ото льда освободилась, а тут и не думала.
— А я люблю половодье, мужики, — оторвался от бумаги Валька Орелик. Едешь на лодке, гребешь потихоньку, глядишь, а лес в речку зашел. Ольха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее — трава, как длинные волосы, шевелится.
— Хе-хе, — оживился дядя Коля Симонов. — Ты у нас, Валька, прямо этот, как его, рилик.
— Кто, кто? — захохотал Семка. — Рилик! Ну, даешь, дядя Коля!
Симонов смутился, махнул рукой, полез в спальный мешок, заворочался в нем, словно медведь-шатун, аж пологи ходуном заходили. За ним ушел Гусев. Семка сидел у костра, аккуратно укрыв свое радийное хозяйство, и глядел, как пишет длинное, на много страниц, письмо Валька. Пишет, пишет, не может дописать, даже удивительно, как у него терпения хватает — и, главное, не отправляет свое письмо, ждет, когда сам вернется в поселок.
Семка глядел на костер, на его трепещущие жаркие языки, переводил взгляд на Вальку, хотел спросить его про то, о чем давно думал, и не решался.
В палатке на разные голоса захрапели Слава и дядя Коля Симонов — с присвистом, с протяжкой.
— Теплынь-то! — проговорил негромко Семка.
Небо над головой было бездонным, смоляным. Ни одной звезды не видно, и от этого Семке делалось еще торжественней и слаще. Он вдыхал запахи, которые приносила ночь, вглядывался в темноту, и ему казалось, что его ждет кто-то, хотя это глупо — кто же может ждать в темноте, посреди тайги, или даже в поселке, — в поселке никого не было у Семки. "Мама?" — подумал он и сразу отверг это. Мама ждала его всегда, ждала всюду, где бы ни была, и Семка знал это, чувствовал, понимал. Но сейчас было что-то другое. Где-то кто-то ждал Семку совсем иначе, чем мама.
Читать дальше