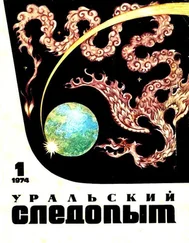— Милый! Скажи врачу, отпустили чтоб! Зайди, говорю, к врачу!
— Поправляйся, смотри не торопись!
— Зайди, говорю! Отпустят. С фронта, мол, вернулся, скажи!
— Тебе чего принести-то? Хочется-то чего?
— Ты-то как? Голодный?
— Тебе-то, говорю, что принести?
— Скажи им, убегу все равно! Пускай выписывают!
— Дома в порядке! Детишки здоровы!
— Нога болит? Нога-то болит?
— Здоров, как бык! Ты-то как? Принести чего?
Бесконечный дуэт утомлял, Катя натягивала одеяло повыше, пряталась в подушку, но все равно слышалось:
— Чего принести-то, скажи!
— Картошечки жареной, милый, знаешь, как мы с тобой прежде-то жарили… С луком. Молочка тепленького…
И так тоскливо, певуче-ласково выговаривала женщина эти слова, будто речь шла совсем не о том, не о картошке с луком, а о чем-то другом, потаенном… Через неделю Шуру выписали. В палате на втором этаже происходил обычный круговорот — больные выписывались, приходили новые. Морозные узоры на оконном стекле сгладились, превратились в ровную мутно-белую пелену. Потом появились голубые промоины, ведь дышали на стекло с двух сторон: изнутри — женщины, чтобы увидеть своих, а снаружи — неяркое зимнее солнце. Вечерами глубокое черное небо заглядывало в форточку, а воздух шел морозный, праздничный, как пряные крепкие духи. Катя в такие вечера забиралась на подоконник и дышала и прислушивалась. Все ей казалось, что уже пахнет талым снегом и будто постукивает весенняя капель.
Как-то ночью под самым окном задрались, завопили коты, а утром оказалось, все окно оттаяло, и во всю ширь открылся двор — с наваленными у стены ящиками, с поленницами дров, с ветхими заборами и зеленой проходной будкой у ворот. Кате показалось — целый мир открылся. После, когда главврач сказал свое «теперь можно» и она с узелком, с литером на поезд, счастливая, шла через этот самый двор, он оказался всего-навсего тесным, заваленным разной рухлядью больничным задворком, а мир начинался дальше, за проходной будкой.
Впервые она села в вагон как полноправная пассажирка, в кармане билет, в мешке — продукты на дорогу. Радовалась, что не к чему теперь возвращаться в подвальную каморку, где горевали вместе со старухой Касьяновной. Как хорошо, что догадалась попросить пропуск на родину! Ехала она домой, в село Тополевку. Дорогой размечталась: а вдруг известие о смерти матери ошибочное, вдруг мать жива! Вдруг! Ведь бывали же такие случаи, она сколько раз слышала, что бывали…
На этот раз ошибки не произошло. Не только матери, но и дома-то самого не было. Кучка обгорелых бревен, да печная кирпичная труба, как надгробье, торчит. Подошли, вглядываясь из-под руки, женщины.
— Гляди-ка! Ей-богу, Катерина, учительницына дочка. Она, так и есть, она!
Обступили, стали расспрашивать.
— Стало быть, нет больше нашей Лизаветы Ивановны, царство ей небесное…
— Хорошего человека всегда жаль, да что же делать. У нас вон тоже. Сивцовых братьев убило, Андрей Петрович, председатель, всей семьи лишился, бобылем живет. Алексей-кузнец, Петунины…
— Петуниных-то помнишь?
— Конечно. Всех помню, всех…
— Ну, так половину поубивало, а которые разбежались. Другие еще не знаем, живы ли.
— А уж председатель было хотел вашу баньку на бревна раскатать. Для коровника. Хорошо, что приехала. Жить-то нынче негде. Из-за учительницы и баньку-то сберегли. Приедет, мол, детишек учить начнет…
Подошли другие.
— А-а! Вот и еще лошадку бог послал. Молоденькую! С приездом, Катюш!
— Это они насчет пахоты. В прошлом годе на коровах пахали да на бабах. Коровенок-то три штуки было, а баб — четырнадцать. Пятнадцатая будешь…
И правда, село почти сплошь выгорело, уцелело десятка полтора домов на выселках, да кое-где последние избы, подпертые слегами, еле держатся. Народу осталось мало — разбежались по родичам да по соседним деревенькам… Пусто, тихо, но по дворам все-таки копошится народ. Жить-то надо.
Когда все разошлись, она пробралась через огород к бане. Баня была крепкая, отец ее сладил на совесть. Катя даже помнила, куда прятали ключ: в щель под самым порогом. Ключ и правда был тут, мокрый, заржавелый. Но замок висел на дверях чужой. Прибежал соседский Гришка, притащил новый ключ. Она отперла, распахнула настежь дверь. Все было как прежде. Просторный предбанник, полки, печь. Даже ведро и шайка старая уцелели. Хоть сейчас мойся… Посидела немного на скамье, огляделась, потом повесила на гвоздь пальто, повязала голову платком и начала убираться. Натаскала воды, затопила печь. Соседка дала чугунок, сковородку, еще кое-какую утварь.
Читать дальше