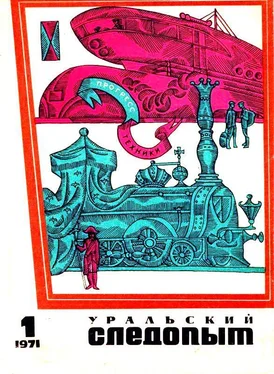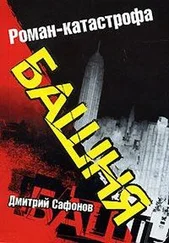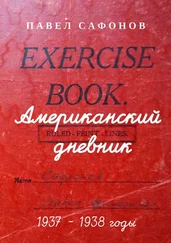Подцепив посудину сковородником, прошел в горницу. Парамон Моисеич и Соленый сидели, за столом, друг против друга. Перед ними, початая на четверть, стояли бутылка водки и граненый, с синим отливом стекла, стакан. Это для полицая. Парамон Моисеич в жизни не пил и не курил.
- Садись с нами, сынок,- пригласил Парамон Моисеич.- Чай тоже не завтракал.
- Садись, парень,- дружелюбно прогудел Соленый.- Правда - она в сытом брюхе.
Панька подумал - и сел сбочку.
Соленый наклонил бутылку над стаканом, налил до половины, понюхал корку хлеба и выпил, не поморщившись. Вяло пожевал картошку.
- Квас. Дрянцо.

Как равному, Паньке предложил:
- Хочешь?
Панька мотнул головок
- Вольному воля, было б предложено. Так вот, Парамон Моисеевич,- затрубил он, продолжая,, видимо, оборванный Панькиным приходом разговор,- скажу без околичностей, ибо прямоту уважаю. Со всей откровенностью скажу: крест на грудь - он что? - побрякушка. Однако цену человека подымает. Получу крест - на волостную полицию сяду. А коровенка… Стану начальником - коровенка приложится. Да хоть бы и сейчас - раз плюнуть.
- Так ведь трудно без нее, без кормилицы,- оправдываясь, вставил свое слово Панькин отец.- Никак невозможно без молока. Анисья вон занемогла, а молочко- оно б ее на ноги живо поставило. Топленое, на липовом меду, значица.
Еще недавно была в их доме удойная корова-четырехлетка по имени Обнова. Рыжая мастью, круторогая, с мягкой и теплой всегда шерстью. Эту шерсть, когда Обнова линяла, Анисья бережно собирала и катала из нее для Паньки упругие мячики, не хуже резиновых были они.
В летние месяцы Обнова на выпасах гуляла, за садом, за околицей. Вечерами Панька гнал ее домой, и, завидев калитку родного двора, Обнова радостно и громко мычала. Звала хозяйку с подойником. Тяжелое вымя тяготило ее.
Нынешней осенью проходила через Незнамовку фронтовая часть. Задержалась в деревне - и съели Обнову солдаты. Парамон Моисеич, когда немцы во двор нагрянули, навстречу выбежал с документиком, удостоверяющим, что человек он ,не рядовой, приметный: первое в деревне лицо.
- Пшель! - отвел его руку ширококостый фельдфебель с воспаленными глазами и даже толкнул Парамона Моисеича: документик отлетел в одну сторону, мужик - в другую, а фельдфебель строевым шагом вошел во двор и выстрелил Обнове в голову.
Свежевать кормилицу заставили Парамона Моисеича, мясо варить - Анисью.
После, как фронтовики из Незнамовки ушли, в волостную управу ездил Парамон Моисеич, жаловался и правду искал. В управе обещали разобраться, помочь, но, думать надо, забыли про обещание…
Припомнил все про Обнову Панька - и грустно ему стало, задумался надолго и плохо слышал, про что говорили мужики. А когда очнулся - навострил уши.
- Жалко, Фома Фомич,- виновато толковал отец.- А вдруг всамделе схватим мы его? Живой, как-никак, человек, русский.
Полицай снова налил в стакан, выпил, крякнув, потянулся к сковородке.
- Я вот что скажу…
«Вот гад, всю картошку стесал. Что в прорву ненасытную мечет»,- с ненавистью подумал Панька, глядя, как сноровисто подчищает Соленый горелки на дне сковороды. А Фома Фомич - будто Панькины мысли подслушал,- подмигнул ему, усмехнулся:
- У меня, парень, аппетит с каждой стакашкой растет. Тонус такой.
Панька смутился, но Соленый не разглядел его смущения, повернулся к отцу.
- Я вот что скажу, Парамон Моисеевич, жалеть в наше время прежде всего самих себя надобно,- тщательно отделяя одно слово от другого, затрубил он.- Москву немцы де-факто и де-юре уже взяли, войне не сегодня-завтра полный капут выйдет.
Соленый слыл человеком образованным. Всего каких-нибудь пять месяцев тому назад заведовал он райзо, а кроме того, числился штатным и нештатным лектором и пропагандистом всевозможных организаций, начиная от официального Осоавиахима и кончая добровольным кружком любителей русской истории, в который, помимо Соленого, входили два учителя средней школы. Страстью Соленого было выступать на районных и прочих всяких активах, и уж когда получал он слово - в ораторы Фома Фомич записывался при любом удобном случае и непременно первым,- с трибуны его силой согнать было нельзя. Выложится весь - сам уйдет. Красноречие Соленого в поговорку вошло.
Сейчас он сидел, навалясь на край стола широкой грудью (ах, как недоставало на ней креста-побрякушки!),- пьяный не столько от дрянного самогона, сколько от уверенности в себе, и, точно в податливую доску, вбивал в тщедушного, ничем не замечательного Парамона Моисеича ядреные гвозди-слова.
Читать дальше