Как-то вечером Курбан снял с нар свой дутар. Быстро забегали по двум струнам дутара его пальцы. И высоким курлыкающим голосом, который неожиданно оказался в запасе у этого крупного человека, он запел туркменскую песню. И джигиты стали просить, чтобы Амед станцевал. Амед взглянул на меня, надел шапку на затылок и, вскинув пальцы, поводя ими в воздухе, пошел, поплыл по вагону.
— Э-э, что он там кычет! — закричал Табашников, вытащил откуда-то балалайку, быстренько подстроил струны и, поймав тон мелодии, которую играл Курбан, пустился легко перебирать струны, по-своему, по-русски, разнообразя напевным перебором однотонное звучание двухструнного дутара.
— А ну, Симочка, выходи, доказывай! — крикнул он мне, взмахнув балалайкой. — А ну, давай московский разговор, саратовские припевки… «И-эх, ухни, кума, да не эхни, кума, я не с кухни, кума, я из техникума!» Слыхала такое? Со мной не то еще услышишь! — И он грянул плясовую, ловко вертя балалайку над головой и снова попадая рукой на струны. А потом балалайка стала летать у него за спиной, он пустился в пляс посреди вагона, перескакивая через балалайку, играя на ней за спиной, и снова инструмент появлялся у него над головой. — Ну, Симочка, Симочка! «Эх, ягодка ты, ягодка, тебе не двадцать два годка, тебе всего шестнадцать лет… тебе под стать один Амед!» — неожиданно пропел он, подмигивая мне. — Здорово сам сложил?.. Ходи давай, Симочка, раздоказывай. Хоть мы и не помещики и не Наполеоны, в кино не снятые, а ну-кось, походи перед нами!
Я сперва не решалась, а потом вышла на середину вагона, затопала дробно, как меня учили когда-то для кино, и пошла, пошла, пошла по кругу с платочком… А джигиты смотрели на меня веселыми и ласковыми глазами, щелкали языком и громко хлопали все разом в ладоши.
— Ух! — сказала я и села, обмахиваясь платком.
И Курбан почтительно подал мне в большой пиале холодный зеленый чай, чтобы я освежилась.
Быстро шел наш поезд. Везде мы встречали зеленые огни семафоров. На третий день к вечеру замелькали знакомые подмосковные поля и лесочки. Тут везде было очень много военных. А поля и равнины до самого горизонта были перечеркнуты рядами противотанковых ежей, сделанных из отрезков стальных рельсов. И по шоссе двигались танки, колонны грузовиков. Чувствовалось, что близко Москва, и Москва не обычная — Москва военная, фронтовая. Это ощущалось уже и по тому, как подтянулись бойцы, как посерьезнели их лица. То и дело в вагон наведывались командиры, проверяли лошадей, строгими голосами отдавали приказания. А я в эти минуты сидела, забившись в уголок, надежно прикрытая попонами и плащ-палатками.
Но все-таки для меня было неожиданностью, когда под вечер поезд вдруг остановился на какой-то небольшой станции. Раздались снаружи крики команды, загремели по всему составу ролики, на которых, визжа, отодвигались вагонные двери, все забегало вокруг. Появились тяжелые доски. Их наклонно приставили к нашему вагону и стали по ним выводить осторожно ступающих лошадей.
Кони испуганно топтались, не решаясь ступить на крутой помост. Они прижимали уши, шарахались назад, в сумрак вагона. Страшил свет, от которого отвыкли их глаза, пугал чужой холодный воздух, который они, храпя, втягивали тревожно распяленными ноздрями. Бойцы тянули коней, бранились сквозь зубы, набрасывали на головы лошадям мешки, почти повисали на поводьях, таща лошадей на помост. Амед обеими руками осторожно прикрыл Дюльдялю глаза и, плечом припав к шее коня, легонько подталкивая и в то же время подпирая его, что-то шепча ему в самое ухо, бережно свел коня на землю. Дюльдяль весь, от тонких ног до крупной, нервно вздернутой головы, дрожал…
Видя, что всем сейчас не до меня, я некоторое время тихонько сидела на нарах в вагоне. Потом решила выглянуть наружу.
К станции подходил уже другой состав, и из него на ходу выскакивали матросы в бушлатах, с автоматами в руках. Вид у них был такой, как будто они прыгали на полном ходу с корабля в воду. Они выпрыгивали, скатывались под откос и тут же строились. А пространство вокруг все было в движении. Разгружали орудия. Рычали моторы, тащили, везли какие-то ящики.
— Рассредоточивайтесь! — командовал кто-то. — Маскируйте транспорт!
Амед бегал вокруг вагона с озабоченным и строгим лицом, поглядывая на быстро темнеющее небо.
Табашников держал на поводе своего коня и Дюльдяля, который неотступно следил своими умными глазами за каждым движением Амеда, тянулся к нему беспокойно и втягивал широкими ноздрями воздух.
Читать дальше
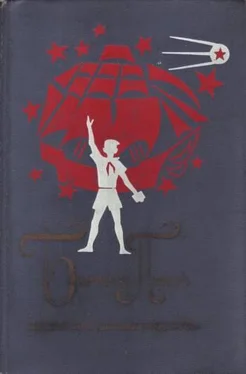







![Михаил Хохлов - Миротворец. Планета Земля – великое противостояние. Книга первая [SelfPub]](/books/419243/mihail-hohlov-mirotvorec-planeta-zemlya-velikoe-thumb.webp)

