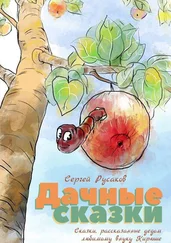Зашел за Кондрашовым, помог ему упаковать его главный багаж — книжки. Впрочем, все они влезли в корзину, вместе с прочим имуществом.
Оглядели в последний раз барак и вышли. Дверь звонко щелкнула им вслед, будто на замок закрылась. Савка поскучнел.
Выйдя за дверь барака, пошли не в обычную сторону — к шахте, а в обратную. У Савки защемило сердце.
Ведь два с лишним года здесь прожил… Работал…
Остановившись на минуту, попрощался глазами с местом, где началась его настоящая шахтерская жизнь, потом махнул рукой и молча пошел за Кондрашовым.
Неохотно передвигались Савкины ноги, с трудом отрываясь от земли для каждого следующего шага, будто земля, по которой он шел, тянула их к себе. Верно, шахта тянула, что под той землей была. Его шахта.
Смутные тоскливые мысли, рожденные разлукой, опускали Савкину голову все ниже и ниже.
Угадав эти мысли, Кондрашов тотчас же «наддал пару» в его настроение.
— Не тоскуй, не грусти, душа-девица. Мы с тобой и так зажились тут через меру. Подумать только: нанялись на работу в девятнадцатом веке, а уходим в двадцатом! Века сменились, а мы всё на одном месте сидим!
Савка поднял голову и вытаращил глаза на Кондрашова.
И впрямь ведь так получается: девятьсот первый-то год уж в двадцатом веке числится. Занятно! А Кондрашов продолжал:
— И годочек-то первый нового столетия, кажись, помудрей своих старших братцев выдался, позанозистей… Помнишь листовочку-то о первомайской стачке на Обуховском? Сам разбрасывал. Какую стачку отгрохали? Красота! Такой пожар стачка эта зажгла, что вряд ли царю-батюшке со всей его сворой утушить тот пожар удастся. Поджарит он им пятки, пожалуй. И мы уголечка горячего им вслед подбросим, чтоб не воротились. Эх, Савка! Дела-то, дела-то нам еще сколько в новом столетье будет! А ты на старое оглядываешься. Плюнь!
Савка хоть и не плюнул, а оглядываться перестал, и ногам сразу полегчало: пошли рядом с Кондрашовыми, четко отбивая шаг по голой мерзлой земле.
Шахта, на какую они метили, была почти рядом. Через полчаса были уже там.
Слух оказался правильным: шахта нуждалась в кузнеце. Кондрашова приняли тотчас же. Савку он отрекомендовал как своего подручного — и его зачислили тоже. Так Савка оставил шахтерство и начал учиться новому ремеслу.
Он оказался способным учеником, Кондрашов — отличным учителем, и работа пошла у них полным ходом с первых же дней.
Чудесные дни настали для Савки. Впервые он увидел труд не как проклятие и муку, а как радость творчества. Кондрашов работал любовно, вдохновенно.
Инструмент играл у него в руках и делал все вдвое, втрое быстрее, чем у других.
Даже хозяин, заявившийся в один из первых же дней в кузницу с заранее обдуманным намерением внушить новому кузнецу, чтоб он лучше старался, и тот не нашел что покорить, к чему придраться в работе Кондрашова.
«Знатный мастер! Сто сот стоит!. Не бунтарь ли. только? Больно много сейчас их развелось», — думал хозяин, невольно любуясь работой кузнеца.
А Кондрашов, будто угадав его мысли, начал оснащать свое обычное балагурство такими крепкими шахтерскими словечками и прибаутками, что хозяин и насчет его благонадежности успокоился:
«Охальник. Такие не бунтуют. Со студентами компанию не водят…»
У хозяина все бунтари отожествлялись со студентами. А «охальник», как только хозяйская спина скрылась из поля его зрения, тотчас же славировал в другую сторону: на шутки, от которых, по выражению Савки, «чесалось в мозгу».
Савка еще на той шахте понял, что кондрашовское балагурство — это его метод работы. Здесь же он убедился в этом окончательно.
Новая шахта — новые люди. И каждый из них сам по себе. Кто из них честный труженик, кто «хозяйский пес» — шпик? Кто озлоблен, кто покорен? Кто чем дышит, чего ищет в жизни? Все это подпольщик должен сначала прощупать, а уж потом приступать к пропаганде.
И балагурство, в каком Кондрашов был не меньшим специалистом, чем в кузнечном деле, прекрасно помогало ему справляться с этим трудным и сложным делом.
Вот он точит зубок обушку и шутит с принесшим его простоватым парнем:
— А ты сам зубаст ли? А то давай и тебе зубы подточу, чтоб от хозяев отгрызаться умел!
И тут же расскажет мимоходом, как обуховцы самому царю-батюшке огрызались этой весной.
А ладя порванную цепь другому, немолодому уж, угрюмому шахтеру, Кондрашов, покряхтывая от натуги, приговаривает, ни к кому не обращаясь, в такт усилиям:
Читать дальше
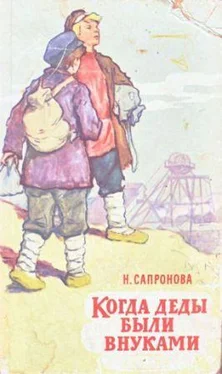



![Надежда Мосеева - В детстве я был хулиганом… История про кота [СИ]](/books/415545/nadezhda-moseeva-v-detstve-ya-byl-huliganom-istoriya-thumb.webp)