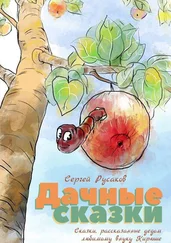Обезумела с тех пор Агафья. Дома не живет, все бегает и кричит. Через месяц пропала. Замерзла в яру, весной нашли.
После этого случая все окончательно уверились, что доктора ни к чему: знахарка лучше. И ходит по избам знахарка. От больных к здоровым. В одной и той же одежде. Кропит по больному и по углам «святой» водицей, а с одежды да рук заразу рассыпает.
Впрочем, и без нее в переносчиках заразы недостатка нет. Умер ребеночек, соседки идут к нему «прощаться». И детей ведут: «Поди с дружком простись».
И целуют, прощаясь, мертвую ручку или венчик на лбу. А там, глядишь, и эти дети валятся, что прощались.
Много детей умерло, а переболели почти что все.
Пришел черед, и к Ермолаичу заглянула в избу лихая гостья. Свалила ребят одного за другим, начав со старших. Мечутся ребята в жару, хрипят, задыхаются. Бабушка, и без того неразговорчивая, замолчала совсем. Только руки и голова ее работали неустанно.
Чем ребят пользовать? Как лечить?
Вспомнила: раньше кое-кто из баб керосином детей пользовал — помогает, говорили.
Тотчас вынула из сундука заветный холст, на ее смертную пелену и прочие похоронные расходы заготовленный, и подала его отцу:
— Снеси Кирейке-лавочнику: проси керосину отпустить.
А сама принялась собирать старье холщовое помягче, мыть, кипятить, сушить. Потом нарезала старье на полосы, вымочила их в керосине и обмотала ими больные горлышки.
Два раза в день проделывала она эту процедуру. Дважды шесть — двенадцать горлышек.
Спасибо еще, старшенькие две внучки «в людях» жили: не болели.
Керосин щипал кожу, лез в глаза, ребята бунтовали, но, видно, и впрямь он был полезен: горлышки их задышали свободней, дети запросили пить, а потом и есть: на поправку дело пошло! Ни один внучок не задохся!
Спала ли бабушка в те ночи — никто не знал, но жалоб от нее не слыхали.
Выздоравливать ребята стали в том же порядке, как заболевали: Савка и Петька первыми. В одно утро — какое по счету, Савка не знал — он проснулся по-новому: не закрутил больной головой, ища ей удобного места на изголовье; не зашарил глазами по стенам и потолку, гоняясь за бредовыми образами, не захрипел: «Пить!» А просто открыл глаза и спокойно уставился ими в потолок, по которому метались слабые отблески лучины. Щелявый и черный потолок показался ему чрезвычайно милым.
Наглядевшись вдоволь на потолок, он перевел глаза на печку, на бабушку, что-то ставившую в печь. При виде бабушки он почувствовал, что горло его сжалось и глаза застлала какая-то муть. А на душе стало сладко-сладко. Ему захотелось тотчас вскочить, подбежать к ней, обнять. Но он почему-то не смог этого сделать, ноги его не слушались, спина и руки — тоже. Все у него было как ватное, не его.
И только голос произнес тихо, но внятно: «Бабушка».
Бабушка чуть не уронила рогач, так вздрогнула! Обернулась к Савке и метнулась к нему быстро, как молоденькая.
— Внучоночек! Саввущка! Очнулся! Жив, голубчик мой сизый, — шептала она и гладила корявой старческой рукой его свалявшиеся волосы.
Савка испытывал полное блаженство. Тут с соседней лавки послышался и слабый голос Петьки: — И я, бабушка, жив, кажись!
Бабушка встала, выпрямилась, опустила бессильно руки, и горячие неудержимые слезы полились из ее глаз: первые за все время внуковых болезней.
Один за другим в течение недели очнулись и другие ребята и хоть поднялись не сразу, а все же стали на себя похожи: разговаривали, ели.
Запищала из «святого угла» и самая младшая — Апроська.
Только средняя сестра — Аннушка — отстала от прочих: долго не вставала. А и вставши, оказалась «с покорцем»: на уши тугой. Сказывали, глоточная ей уши проела.
Бабушка превзошла самое себя в изобретении новых вкусных кушаний. Многое ли сделаешь без мяса, без крупы, без сахара? Из одной картошки да свеклы? А она делала!
Сколько перетерла она овощей на терке, сколько пальцев своих при этом она стерла в кровь — это не в счет. А из печки, после суточного томления в ней, вынимался горшок, на треть залитый густым сладким соком: патокой. Он заменял сахар в стряпне и варенье для детского лакомства. А сама «утомленная» до темно-коричневого цвета, ароматная, сладкая свекольная стружка шла в хлеб, придавая ему сладость и вкус.
А картошка? Промывала бабушка ее стружку — отцеживала крахмал, — вот те и кисель, хоть из той свеклы с квасом. А сама стружка отправлялась тоже в хлеб: и пышней и белей от нее становился. А главное — муке экономия!
Варила бабушка отжатую картофельную стружку, и получалась каша на манер манной.
Читать дальше
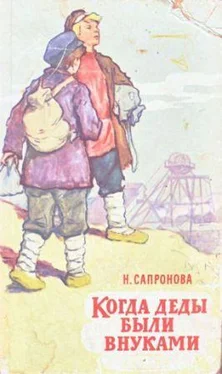



![Надежда Мосеева - В детстве я был хулиганом… История про кота [СИ]](/books/415545/nadezhda-moseeva-v-detstve-ya-byl-huliganom-istoriya-thumb.webp)