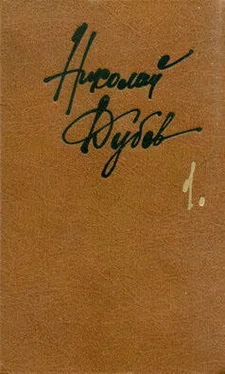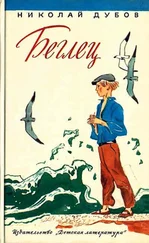Варя не ответила. Он налил молока в чашку, вспомнил, что она обязательно ставила чашки на блюдечки, поставил чашку на блюдце, понес в комнату и увидел её неподвижный взгляд. А ветер вздергивал шторы, они взмывали вверх и опадали, словно кто-то в белом в немом отчаянии заламывал руки и горестно опускал их, заламывал и опускал…
Туба нитроглицерина лежала на одеяле возле Вариной руки. Не успела? Или не хватило сил? А его не было рядом, чтобы подать, помочь… Она умирала и была одна. А его не было рядом. Может, последним усилием, последним вздохом она позвала его, а его не было… Не было!
Сжатые кулаки он прижал к вискам, стараясь вдавить их как можно сильнее, чтобы этой болью заглушить ту, что снова прорвалась.
У входной двери позвонили. Шевелев открыл. Дворничиха протянула пластиковый мешочек с чем-то тщательно завернутым в газету.
— Ось, — сказала она.
— Что это?
— Я там не знаю. Сестра ваша принесла. Я уже два раза поднималась, так вас дома не было.
Дворничиха ушла. Шевелев, не разворачивая, сунул сверток в холодильник.
В этом вся Зина — долг превыше всего. Обида обидой — обид она не прощает, — но считает, что ему необходима диета, значит, она должна её обеспечить, заботиться о нём больше некому.
А почему, за что, собственно, он её обидел? И вообще натворил всё это — одному сыну набил морду, другого выгнал… Вместо того чтобы быть всем вместе, разделить горе… А как можно горе разделить? На каких весах его взвешивать, на какие части резать? Бред. Красивые пустые слова. Разве легче оттого, что рядом кто-то сидит с постной рожей? Так что же, он своё горе на них вымещает? Или попросту съехал с катушек? Стариковский бзик?
Нет, не бзик… На Сергея-то он не набрасывался. Может, то, что говорил Сергей, он, не понимая, не отдавая себе отчета, чувствовал сам: где-то в подсознании было ощущение того, что все, один больше, другой меньше, всё-таки виноваты в том, что произошло? Конечно, и детки руку приложили. Нарочно? Сознательно? Боже упаси! Никто не хотел матери зла, никто не имел желания причинить ей боль, заставить страдать. Они любили её, старались доставить радость, сделать приятное… И всё-таки, всё-таки…
Всё-таки в них свое, личное перевешивало и уводило всё дальше. И всех в разные стороны. И сами они становились разными… Он не раз задавал себе вопрос: вот три сына, почему они так не похожи друг на друга? И это ещё куда ни шло. Но почему они не похожи на них с Варей, словно и не их дети? Должно ведь быть что-то общее у детей с родителями?
Однажды он сказал об этом Устюгову. Тот помолчал, раздумчиво поглаживая лысину, потом сказал:
— Если оставить в стороне сходство внешнее, физиономическое, то дети похожи на своё время, а не на родителей.
Сначала это показалось обычным устюговским суесловием. Теперь всё чаще он раздумывал: может, так оно и есть? Когда и как это началось?
В сущности, их разделяют не такие уж большие промежутки времени. Сергей родился в тридцать шестом, Борис в сороковом, Димка в сорок седьмом. Впрочем, небольшие они для взрослых, для детей — громадны. Тяжелее всего досталось Сергею. Когда началась война, ему было пять лет — возраст, в котором все помнят и многое понимают. Он запомнил всё — страх, муку неизвестности, непрестанно грызущий голод, холод и мокрядь, бездомье и полную во всём нищету. Однажды, став взрослым, он сказал, что со временем всё это как бы пригасло, утратило остроту. Немеркнуще, на всю жизнь запечатлелись в его памяти Миръюнусовы.
По возрасту и ранениям Шевелева демобилизовали в числе первых. Ещё не было триумфального потока эшелонов с победителями, возвращавшихся в громе оркестров и половодье цветов. Впритычку, в тамбурах, как придется он добрался до Киева. И вот пустой двор, запертый дом, окна с задернутыми занавесками. Он задохнулся от смятения, какого не испытал даже на фронте, перевел дух и постучал, предчувствуя, зная, что ему никто не откроет. Дверь открыла Зина.
Помогать другим всегда было её первой заповедью. Она помогала Варе в поспешных сборах, потом — донести Бориса и вещи до вокзала, расположиться на нарах в товарном вагоне и только после этого побежала домой за своим чемоданчиком и рюкзаком. Когда она снова добралась до вокзала, эшелон уже ушел. Он был последним. Зина осталась в городе и жила попеременно то у себя, то в квартире брата, оберегая их жалкий скарб от мародеров. Зина пережила с городом всё — и подконвойный исход девяноста тысяч евреев в ад Бабьего Яра, и взрывы, а потом огненное полыхание Крещатика и Прорезной, и, как грибы, расплодившиеся частные лавочки и комиссионки, где торговали награбленным в опустевших квартирах, и наконец… первые советские танки, ворвавшиеся в город. Их встречали не цветами — кто там думал тогда о цветах?! — а слезами счастья и надежды, которые дороже всяких цветов. Только через три года после разлуки дошло до неё Варино письмо. Она оказалась в Ташкенте. Много позже из сбивчивых, вперемежку со слезами рассказов Вари Шевелев узнал, что им пришлось пережить.
Читать дальше