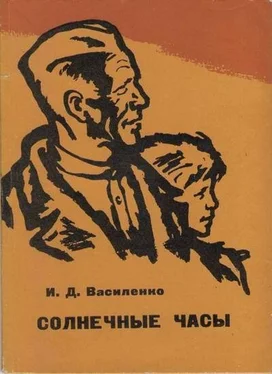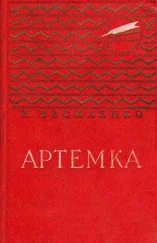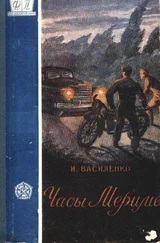— Что ж, что война, — отвечал я. — Когда ж и писать о таких бабушках, как не в войну!
Однажды над Нальчиком разразился ураган. Я сидел у окна и через стекло смотрел, как трепетали каждым листом пригнутые к земле платаны, как все небо покрылось пыльной мглой.
Вдруг дверь взвизгнула, хлопнула, и что-то с таким громыханием промчалось по комнате, будто в нее ураганом занесло лошадь. Я быстро оглянулся и оторопел: передо мною был Ахмат, тот самый Ахмат, который входил всегда бесшумно, как котенок. Но что за вид! Волосы спутанные, лицо бледное, глаза, как у пьяного.
— Ахмат! — воскликнул я. — Ты испугался урагана?
Он отрицательно качнул головой.
— Так в чем же дело? Что тебя испугало?
— Меня не испугало, — скорее прошелестел, чем сказал он. — Меня…
Он не договорил, вынул из кармана сложенный лист газетной бумаги и, не давая мне, прижал ладонями к груди.
— Вот… Я ждал… Каждое утро стоял около редакции… Швейцар выходил и клеил… А сегодня… Сегодня стал швейцар клеить, а ветер вырвал у него, поднял к самому небу и понес. Я бежал за ней, быстрее ветра бежал… А когда она падала с неба, я увидел… еще в небе увидел, что… И у меня потемнело в глазах…
Я осторожно высвободил из его рук газету. Над подвалом сразу бросился в глаза заголовок: «Бабушка».
Рассказ печатался с продолжениями, из номера в номер, и эти дни были для Ахмата днями упоения. Он просыпался с птицами, шел к зданию редакции и там, в сквере, часами сидел на скамье, дрожа от сладостного ожидания. Ждал он счастья.
Счастье выносил под мышкой сонный швейцар. Этот медлительный кабардинец сначала долго мазал деревянный щит клейстером, потом прикладывал к нему развернутый газетный лист, потом целую вечность возил по листу ребром руки, расправляя каждую морщинку. Но и после этого он не уходил, а, заслонив спиной Ахматово счастье, крутил цигарку, пускал из ноздрей расходящиеся книзу, как седые усы запорожцев, струйки дыма, сплевывал и так внимательно всматривался в небо, будто там у него были родственники или добрые приятели. Теряя терпение, Ахмат тихонько отстранял кабардинца плечом и впивался в мокрые строчки. А потом бежал к газетному киоску, и там опять начиналось мучительное и сладостное томление. Когда газета попадала наконец к нему под рубашку, он вихрем несся ко мне.
— Теперь про дедушку писать буду, — говорил он, блистая счастливыми глазами. — Вы не слыхали про него? О, это был такой джигит, такой джигит!
Я сказал:
— Теперь ты будешь уроки делать и больше ничего.
Напоминание об уроках сразу сбросило Ахмата с небес. За последнее время он успел накопить три «плохо». А экзамены были на носу.
— И ко мне приходи пореже. Пока не подтянешься.
Нелегко было мальчику, чей только что напечатанный рассказ вызвал у всех горячие похвалы, вернуться к решению уравнений с одним неизвестным. Но, подавив вздох, Ахмат взялся за учебник. Ко мне он не являлся. Только передавал с хозяйкой записки: «Осталось два «плохо», «Осталось одно «плохо». Когда принес третью записку, хозяйка сказала:
— Нашел почтальона! Иди сам!
Он приоткрыл дверь и, не переступая порога, сказал:
— Нету больше «плохо». Можно к вам?
День мы провели в парке. Парк был в солнечной дымке. Дремали голубые ели. От липовой аллеи тянуло запахом меда. Внизу, за парком, неумолчно журчала речка.
— Вот как тихо! — удивлялся Ахмат. Он прикрыл глаза, прислушался. — Совсем тихо. Во всем свете.
И вдруг, пораженный возникшей мыслью, вскинул на меня недоуменные глаза:
— А сейчас стреляют?
— Конечно.
— И убивают?
— Гм!.. И убивают…
Ахмат посмотрел на зеленые горы, за которыми поднималась цепь снеговых вершин, на небо, на облитые теплом и светом ели. Его губы шепнули что-то.
— О чем ты, Ахмат?
Он показал рукой на запад:
— Там мой отец. Он защищает эти горы. Потому тут и тихо так. А я не могу. У меня слабое здоровье.
Что у него слабое здоровье, Ахмат говорил не раз. И всегда сокрушенно. Но только теперь я узнал, что он подразумевал под этим.
— Я боюсь крови. Курицу режут — я закрываю глаза, бегу, на все натыкаюсь. Мальчишки подерутся, нос расшибут — подо мной земля ползет. Очень слабое здоровье. — И неожиданно спросил: — Вы на меня не сердитесь?
— За что?
— За то, что у меня слабое здоровье.
Однажды, накануне окончания школьных занятий, Ахмат влетел ко мне с такой же стремительностью, как в день, когда появилась в газете его «Бабушка».
— Еду!.. Еду!.. — кричал он в восторге. — Вот смотрите, вот!.. И круглая печать тут и все!..
Читать дальше