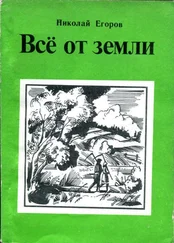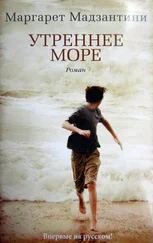Местами жар покрыло пеплом, и кострище походило на уменьшившееся небо, в котором переливались, иногда переплетаясь лучами, крупные звезды. Небо же в этот момент походило на раздавшееся кострище, в котором переливаются раскаленные уголья. Эти звезды-уголья там, вверху, тянулись друг к другу лучами и не могли дотянуться.
Пирошка стояла напротив, зябко сложив руки на груди. Виль подошел к ней.
— Красиво?
— Очень. Жаль, что скоро зальют.
— Как — зальют?
— Водой из ведер, — грустно усмехнулась Пирошка. — Так положено. И вы тоже будете заливать…
«Ни за что!» — едва не воскликнул Виль, но сдержался — от ручья несли ведра с водой. И он бросился навстречу Лидии-Лидусе, отобрал у нее тяжеленное ведро, в котором плескалась студеная вода.
Сырой, горячий и душный дым заклубился, где недавно так могуче и празднично пылал высокий, до неба, костер.
Черное кольцо росло от краев к центру. Когда Виль лил воду, Олег и Лидия-Лидуся завороженно следили за тем, как черным кольцом стискивался пятачок жара.
— Пора и вам, ребятки, — сказал Виль. — Спокойной ночи. Завтра праздник Нептуна и первое купание для всех. Начнется наша основная работа.
Они безропотно подчинились — устали за день, перегрузились впечатлениями. Пошли рядышком — дождались своей минуты! Однако совсем скоро они повели себя странно: Лидия-Лидуся заметно ускорила шаг, обгоняя Олега, а он как-то обреченно отставал…
Черный круг зиял на земле. Быстро пустела костровая площадка, а Пирошка не уходила. Не ждала ли она, чтоб сквозь черное пробилась какая-нибудь из залитых звездочек?
* * *
Грабы и дубы вплотную обступили веранду, пристроенную к столовой. Чуть откинься на стуле к дощатому барьеру — и увидишь звезды, точно вперемешку с листьями нанизанные на ветки.
Столы сдвинуты в один длинный и уставлены тарелками с салатом, рыбой, колбасой и хлебом. В алюминиевых чайниках — гранатовый сок, купленный в поселке у старухи армянки, называвшей самодельный свой напиток бургундским. Не так уж давно был ужин, а, посмотрев на закуски, Виль испытал такой голод, словно весь день не ел.
Собирались же долго и долго не садились за столы — воспитателям и вожатым надо было уложить и утихомирить детей, взбудораженных впечатлениями праздничного вечера.
Пирошка пришла одной из последних. Виль призывно поднял руку, потом показал на стул возле себя.
Когда, наконец, все разместились, Баканов поднялся. Слова в его речи были дежурные: поздравляю с открытием первой лагерной смены, желаю педсоставу и всем другим сотрудникам слаженной и содержательной работы. Но по выражению лица, по тону судя, он был искренне расположен ко всем, был крайне рад, что дело сладилось и доверено людям, на которых он полагается, которых уже любит. Переходя от одного к другому, он с каждым чокнулся, каждому что-то сказал. Вернувшись на свое место, озорно провозгласил:
— Ну, соколики, будем!
Это была единственная за вечер общая акция. Потом компания распалась на небольшие группки. Кто оставался за столом, кто кучковался возле барьера, кто время от времени убегал на несколько минут — посмотреть, как спят ребятишки. Музыки не было — какая музыка после отбоя! Переговаривались и смеялись со сдержанной непринужденностью, и это сказало Вилю больше, чем сказали бы любые приказы и инструкции: что ни делаешь, помни — дети в первую очередь!
Пирошка сидела боком к столу, покачивала в руке стакан, и рубиновая влага омывала преломленные на гранях лучики света. И чудилось, что за стеклом медленно плещется густое пламя. Еще чудилось, что розовая тень, упавшая на чистое лицо Пирошки, — от того пламени. И глаза ее были залиты тенью: но эта тень не имела цвета, вернее, воспринималась Вилем не в цвете, а в настроении — грустном и задумчивом.
Состояние Пирошки озадачивало: каждая новая встреча с нею из тех немногих, что случились, была теплей и доверительней прежних — и вдруг эти грусть и задумчивость. Он не мог их объяснить и не мог не обратить на них внимания, потому пытался разговорить Пирошку. Он надеялся, что, поддерживая разговор, она раскроется, приблизится к нему и приблизит его к себе настолько, насколько сама раскроется. Боясь нечаянно задеть ее, он спрашивал о чем-то пустяковом, необязательном. Она отвечала, невесело шутя, необязательно отвечала, все больше замыкаясь в себе. Откуда было знать ему, что она не отдалялась от него, что, напротив, невольно тянулась к нему и загодя, наученная житейским опытом, тревожилась — в таких обстоятельствах тревога растет тем сильней, чем сильней растет новое чувство.
Читать дальше